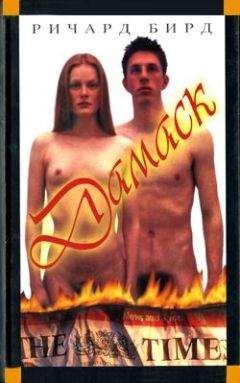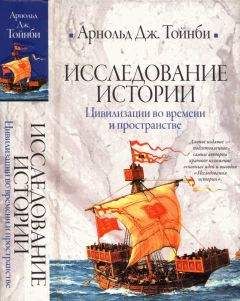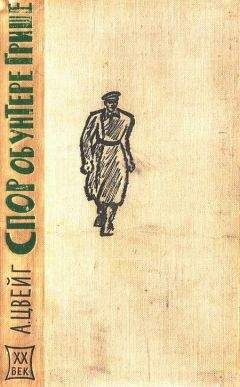Возвращение в Дамаск - Цвейг Арнольд
— Стало быть, ты не знаешь, кто вел разговор, Иванов? — Эрмин встал и даже сделал несколько шагов, средних шагов стройного мужчины среднего роста с плечами спортсмена.
— Они скрылись, прежде чем я сумел пойти следом, — пристыженно сказал Иванов. — Но готов съесть на обед свой кинжал, если один из них не принадлежал к числу людей образованных.
— Придется выяснить, кто, собственно, этот мальчик Сауд и что у него за родня, — сказал Эрмин, остановившись, — эти слова могут возыметь последствия.
— Скверные последствия, — серьезно подчеркнул Иванов, — они были сказаны не вскользь. Хотя злое слово ночью у стены Сионских ворот еще не клятва…
Эрмин кивнул. Вспышки эмоций здесь длились недолго и либо приводили к действиям, либо развеивались без следа.
— Все ж таки, эфенди, надо охранять твоего друга, как красавицу из гарема, и он поступит мудро, если прислушается к предостережениям.
Куда подевалось «европейское» состояние мистера Эрмина? С кресла поднялся мужчина, который завидел опасность и был вполне готов к встрече с нею. Солнце стояло в зените, прохлады в сводчатом холле не прибавилось, тяжесть лета давила по-прежнему — только не на него. Поверх сидящего Иванова он смотрел сквозь стены на улицу Пророка, где в одном из высоких домов жил доктор де Вриндт, с которым он любил поспорить, побеседовать, сыграть в шахматы. Этот голландский иудей был едва ли не отщепенцем, неловкий во многом, ожесточенный противник общепринятых настроений и взглядов, а именно сионистских, которые трактовали еврейство политически и намеревались формировать его, оставляя религиозную жизнь в приватной сфере. Он же, де Вриндт, принадлежал к лидерам тех евреев, которых привела в Святую землю прежде всего набожность, причем к самому ортодоксальному их крылу. Ненависть слушателей, студенческой молодежи, вынудила его и его начальство прекратить лекции, какие он, блестящий юрист, читал о сложных проблемах турецкого (действующего) права; после известных договоренностей с хиджазским [11] королем Хусейном, иракским королем Фейсалом и трансиорданским эмиром Абдаллахом, о которых он сам сообщил в двух иностранных газетах, ему пришлось столкнуться с бойкотом со стороны ведущих кругов сионистского еврейства, заклеймивших его как вредителя в сфере политического строительства еврейской родины; его заявления и поведение по случаю визита, который нанес в библейский край не слишком симпатизирующий евреям лорд Нортклифф, газетный король английских правых, снискали ему ненависть рабочих. Но этот упрямец, И.-Й. де Вриндт, стоял на своем. Не простили ему и две статьи в амстердамском «Телеграфе», сдержанно излагавшие правовую позицию арабов в полемике о Стене Плача, — не простили, даже когда выяснилось, что лондонские юристы подтвердили каждую его фразу. А теперь еще и арабы жаждут его крови, так сказать для полноты картины?
Иванов усмехнулся про себя. Он любил такое выражение на лице шефа, когда хищный соколиный взгляд вдруг подчеркивал легкую горбинку на носу. Здорово он его распалил. А ведь сдуру хотел умолчать об опасности, грозящей доктору де Вриндту.
— Сделай-ка для меня один телефонный звонок, Иванов, — задумчиво проговорил Эрмин, — аппарат все там же, возле кровати. Позвони в больницу на Яффской улице и спроси у доктора Глускиноса, когда я мог бы сегодня к нему зайти. Лучший друг де Вриндта, — пояснил он.
Черкес кивнул и вышел.
Наморщив лоб, заложив руки за спину, Эрмин стоял возле тоненькой струйки фонтана. Подытоживал два пункта своих размышлений: во-первых, почему пойдет именно к Глускиносу, а во-вторых, почему сперва решил, что слова об убийстве были сказаны на иврите. К Глускиносу он пойдет, потому что джентльмену неприятно заводить с человеком разговор о его самых деликатных жизненных обстоятельствах; для этого Бог придумал духовных лиц, врачей и, пожалуй, писателей, а не полицейских и бывших солдат, которым подобное вмешательство столь же отвратительно, как конокрадство. А вот насчет иврита он спросил непроизвольно, потому что де Вриндт упорно не желал принимать в расчет чувства своих соплеменников. Положение евреев в Палестине, особенно сионистов, было политически ненадежно из-за сопротивления арабов, безразличия администрации, равнодушия, даже страха широких еврейских масс во всем мире перед сионистской идеей, которая, как им казалось, вредит их нынешнему гражданству; стало быть, денежных средств мало, развитие слишком медленное, тормозимая правительством репатриация, а при том беспредельная жертвенность горячих молодых парней, которые стремились в страну, чтобы, превозмогая невероятные трудности, превратить малярийные болота в хлебные нивы, пески — в апельсиновые рощи, голые склоны — в виноградники, ухабистые проселки — в современные асфальтированные дороги, под палящим солнцем и морозными ночами, годами в палатках, под проливными зимними дождями и в иссушающий летний зной. У них были основания ненавидеть человека, который вдобавок ко всем сложностям напряженнейших времен оказался еще и противником в их собственной среде и в каждом своем высказывании заявлял прямо противоположное тому, что думали, желали, пылко отстаивали они сами. Однако же грозили ему не они, а арабские родичи некоего мальчика. Странны пути бытия.
— Доктору удобно ровно в четыре, до начала общего приема, — доложил вернувшийся Иванов. — Не слишком жарко для тебя, эфенди?
Эрмин рассмеялся:
— Чертовски жарко, поэтому ты зальешь в радиатор свежую воду и проследишь, чтобы машина все время стояла в тени.
— Согласен. — Иванов в шутку козырнул, приложив руку к каракулевой шапке. Редко «европейское» состояние шефа развеивалось так легко и быстро.
Глава вторая
Неудача
Приемная казалась пустой, сумеречно-темной, беленые стены поддерживали готический свод четырнадцатого века, арки его, пересекаясь, создавали над головой красивый узор. Темно-коричневая мореная скамья опоясывала все четыре стены под узкими, как бойницы, оконными проемами, дополняя впечатление небольшой монастырской ризницы или приемной настоятеля времен короля Балдуина.
В одном углу что-то темнело, наподобие вороха одежды, забытого кем-то из посетителей.
— Добрый день, — сказал Эрмин, — если тут кто-то есть.
Ворох отозвался смешком, радостным хихиканьем развеселившегося старика, за которым последовал короткий грудной кашель.
Потом Эрмин увидел, как ворох поднес к губам платок, взглянул на него и молча спрятал. В зеленом свете, проникающем сквозь маленькие толстые стекла в свинцовых переплетах, обнаружился старик с кофейного цвета лысиной, с не слишком длинной седой бородой и веселыми глазами — работяга в холщовых штанах и полусапожках. Откуда-то Эрмину был знаком этот красивый профиль, по-женски изящный рот, крупный нос, и он вспомнил: уже несколько месяцев этот профиль украшал витрину молодой австрийки-фотографа на Яффской улице, она делала отличные снимки и быстро приобретала популярность. Ворох одежды оказался Н. Нахманом, идейным вождем палестинских рабочих, к которому прислушивались двадцать-тридцать тысяч евреев-рабочих и часть лучшей еврейской молодежи по всему миру. Он сидел, наклонясь вперед, совершенно расслабленно, устремив на Эрмина пристальный взгляд человека, имеющего дело с непреходящим в природе, — взгляд моряка или крестьянина. И вдруг Эрмин сообразил, почему старик сидит здесь и что он, Эрмин, правильно сделал, сунув трубку в карман. Рабочий Нахман страдал чахоткой; чахоточным он и приехал сюда сорок лет назад из Восточной Галиции. По расчетам врачей, ему давным-давно полагалось умереть. Эрмин непринужденно подошел к нему, назвал свое имя, сказал, что очень рад. И надеется, что доктор Глускинос делает все возможное, чтобы сохранить здоровье человеку, который оказывает стране столь неоценимые услуги.
Старый еврей хихикнул: не он оказывает услуги стране, а страна ему; он здесь потому только, что товарищи отослали его с Изреэльской долины, чтобы он себя поберег.