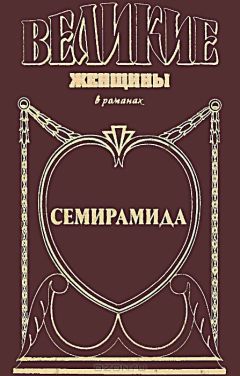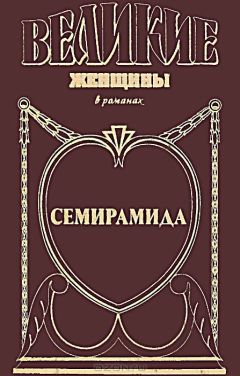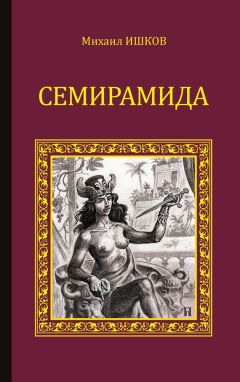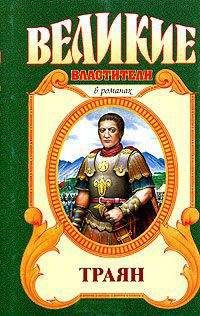Юрий Давыдов - Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...
Тысячу раз прав был Б.Н.Синани: «Наша колония дает наглядные условия, при которых и здоровые люди поздоровели бы». Сознаю, очень хорошо сознаю, что, попадись-ка мои записки обладателям так называемого здравого смысла, они бы ухмыльнулись: дескать, автор слишком долго находился в бедламе, вот и того-с… А здравый-то смысл чаще всего не что иное, как пошлый опыт. Пошлый же опыт (это из Некрасова), пошлый опыт – ум глупцов.
Так и я, избавляясь от него по каплям, не сразу разглядел полет сердец. Сейчас расскажу.
Вечера, свободные от дежурств, я коротал в семействе Б.Н., а всего чаще сиживал дома, пил чай и читал под висячей лампой. Ее матерчатый абажур обнимали латунные обручи; обручи имели прорези в виде сердечек. Потянет ли сквознячок зимний, налетит ли летний ветерок, тотчас качнется абажур, а блики от прорезей скользнут и взлетят по стене к потолку. Только-то и всего, ежели здравый смысл.
Из моей комнаты виден был каменный флигель. В одной из палат свет горел долго. Оконный проем расчерчивала железная решетка. Конечно, система «нестеснения» предполагала упразднение атрибутов системы «стеснения», то есть тюремной, но тут уж губернское начальство ни в зуб ногой, пришлось не убирать. Не стану уверять, будто меня денно-нощно точил вещественный знак острога. Но это окно, схваченное железными прутьями, светилось в палате Глеба Ивановича Успенского.
Еще студентом я состоял в Глеб-гвардии: так называли в ту пору читателей-почитателей Успенского. Прибавил бы и обожателей, но словечко – из лексикона институток, а наша гвардия рекрутировалась в основном из пролетариев умственного труда. Мы перемрем, лягушачьего пуха не останется, но любовь наша к Глебу Ивановичу переживет нас.
С первых же дней колмовской службы мне страсть как хотелось занять его внимание записками о Новой Москве. Долго не решался, а когда отдал, самолюбиво съежился. Дело было не в литературных претензиях, это пустое. И даже не в том, что дальние путешествия, пребывание за морями, за долами как бы придают тебе некое превосходство над прочими. Нет, мысленно перебирая страницы своих записок, вдруг уподобил их глухой исповеди, то есть мычанию больного, лишенного дара речи. А я, признаться, рассчитывал втайне превзойти в глазах Глеба Ивановича нашего главного врача Б.Н.Синани.
Глеб Ив. уважал Б.Н., говорил: «Гениальный психиатр». Б.Н. тоже любил его любовью Глеб-гвардейца. Но он больше вникал в клинические подробности. А по моему разумению, высшие мотивы духовного бытия Глеба Ив., его психический фонд находились вне компетенции медицины. Именно на его духовном бытии я и сосредоточусь, ведь у нас сложились доверительные отношения.
Пишу «доверительные», понимая, что подобные претензии свойственны тем воспоминателям, которые пишут о людях из ряда вон. И это не всегда сознательная ложь. Есть то, что психиатры называют обманными воспоминаниями. Думаю, что избавлен от них долгим колмовским опытом самоконтроля. Это все то же: «Не дай мне бог сойти с ума». Навык утомительный, однако необходимый. В данном случае пуще других. И вот пример. Если бы у меня отсутствовал внутренний дозорный, я бы, описывая первый вечер, приватно проведенный с Глебом Ив., майский был вечер, теплый, тотчас соединил бы все его высказывания по поводу моей африканской рукописи. Оно, может, и вышло бы стройнее, да ведь не так было, не так.
Ну вот он пришел и с этой своей необыкновенно милой, немного конфузливой улыбкой просил отложить разбор моего сочинения до другого раза. Я согласился поспешно и даже радостно, будто отсрочивая исполнение казни. Мы стали пить чай и калякать. Глагол решительно не вяжется ни с моей почтительной любовью к Глебу Ив., ни с теснившим мою душу скорбным выражением его серо-голубых глаз, ни с манерой подергивать тускло седеющую бороду, подергивать словно бы в тревоге и вместе отрешенно. Но мы именно калякали, сумерничали, чаевничали. А ветер с Волхова покачивал абажур, светлые блики вздрагивали и двигались. Я заметил, что Глеб Ив. следит за ними.
Следил все пристальнее, но разговор наш, ничего не значащий, продолжался, и я, как сейчас, слышу его голос. Вот ведь что любопытно. Голоса других людей, давно отзвучавшие, могу, припоминаючи, определить – тонкий, толстый, грубый, еще какой, а его голос и теперь слышу, несильный и словно бы тронутый никотинной желтизною, не то чтобы хриплый, как у многих курильщиков, нет, желтизною тронутый, вот так. Да-да, голос слышу, лицо вижу, лоб белый-белый и этот жест – вытянув два пальца правой руки, прикладывая накрест к груди, будто самому себе указывая, где болит… Вижу, слышу, но, окунув перо в чернильницу, воспроизвожу на бумаге какую-то фиолетовую немочь. А надо, непременно надо воспроизвести, потому что в этот первый наш вечер в словах его, вдруг произнесенных шепотом, мне приоткрылась тщета здравого смысла. И лоб его белый-белый почудился мне пылающим. Потому, должно быть, что в голове Глеба Ив. кипела идея самая кардинальная.
Если приблизительно, то в шепоте Глеба Ив. было следующее. Не полет и дрожь бликов от прорезей в латунных обручах абажура видел он, а Млечный Путь маленьких человеческих сердец, полных страданья, готовых исцелить друг друга касаниями, соприкосновениями, однако летящими врозь и не умеющими догнать друг друга. И на этом Млечном Пути, в этом полете было и его сердце, давно надорванное и обреченное на разрыв, что и случилось несколько лет спустя…
Боюсь, напишу темно, но есть тут какая-то связь со сновиденьем, о котором мне рассказывали, кто рассказывал, не помню, да суть-то вот в чем. Танееву, композитору, говорили мне, сновиденье было, ни в каких сонниках не сыщешь. Нечто живое, сияющее витало в черных безднах, витало, озаряя и согревая душу людей. А где-то внизу, по самому что ни на есть краю сновиденья, влеклась жалкая вереница в каких-то хламидах, в каких-то хитонах. Сияющими, живыми снились Танееву музыкальные мысли Чайковского, и Танеев плакал слезами восторга и благодарности. Снились и свои, танеевские, музыкальные мысли, жалкие хламиды, и он плакал слезами отчаяния.
Вникнуть надо, вникнуть! Как я понимаю, не звуки в цвете или в каком-то фигурном обличье снились, нет, мысли.
Доктор, слава богу, не покусился на рассуждения о муках творчества, о процессе творчества. Такие работы, произведенные пером психиатров, были ему, конечно, известны. О Гоголе, о Достоевском, о Тургеневе. А не покусился, думаю, не потому лишь, что не причислял себя ни к «прирожденным», ни тем паче к «гениальным» психиатрам, нет, догадывался о бессилии истолкования этих «мук», этого «процесса». И посему попросту фиксировал по памяти сюжеты своих собеседований с Г.И.Успенским, походя высказывая – и, повторяю, не для читающей публики – разного рода соображения.
Ну и прекрасно, чего же более? Да в том-то и дело, что на главном суждении Н.Н.Усольцева сказались «привычки» многолетнего читателя Глеба Успенского.
Усольцев очень хорошо понимал слитную двойственность в душе Глеба Ивановича. Успенский был истцом, Успенский был и ответчиком. Иск предъявляла та русская жизнь, которая в корчах расставалась с Авраамом в лаптях и, ужасаясь самой себе, отдавалась Хаму в штиблетах. Ответчик же сознавал и вину свою, и ответственность. Никем не судимый, никем не осужденный, он был приговорен к уяснению и разъяснению причин и следствий. Постигая и то и другое, душил в себе художника ради нагой мысли. И, как на раскрытой ладони, подавал ее читателю.
Вот это понимали, хорошо понимали и Усольцев, и Глеб-гвардейцы. Но в Колмове, в заведении для душевнобольных, Успенский не то чтобы освободился от своего сизифова камня, он освободился от читателя. Оставаясь в Колмове, уходил из Колмова. Уходил в Страну Памяти. Туда, где нет ни «тогда», ни «потом». Между тем Страна Памяти такая же реальность, как и сегодняшняя реальность. А может, и еще реальнее, ибо не знает препон и помех сиюминутного.
Вот этого-то и не понимал наш медик, отмечая в устных рассказах Глеба Ивановича «элементы галлюцинаций». Какие же? Слушайте: «Глеб Ив. допускал, случалось, искажения. Не то чтобы вперед забегал, в сторону отклонялся, вспять возвращался, это вещь в разговоре, в беседе обыкновенная. Другое. Он нередко искажал перспективу времени и перспективу пространства, совмещая события и лица, несовместные ни во времени, ни в пространстве. Выходили вроде бы сюжеты фантастические, хотя обращался он к событиям и людям реальным».
Нет, не улавливал Усольцев законов Страны Памяти. Перебить же вопросом не решался. Пробовал и зарекся: Глеб Иванович то ли не слышал, то ли не понимал, а то и вовсе замолкал. И потому в тетради Усольцева многое отрывочно, сбивчиво, скоком-перескоком. Оно бы и ничего – на какой мне черт усольцевские домыслы? С другой стороны… Не раз я досадовал: эх, напрасно Николай Николаевич не выучился стенографии по учебнику Горшенина или Кривоша. То-то было бы славно.