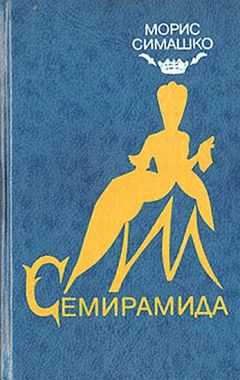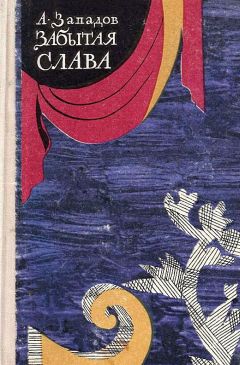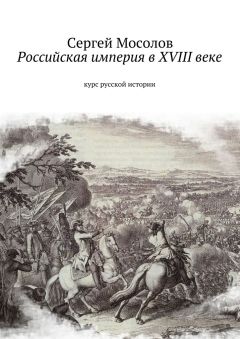Морис Симашко - Семирамида
Когда же явится такая твердая, разумная рука? Дастся ли ей эта несущаяся галопом лошадь? Захочет ли принять рядом с собой другую или самого кучера потянет с собой, увлекая своей бессмысленной и беспощадной дикостью?..
Рука упала неслышно. Может быть, со стрельцами и сыном ему надлежало поступить иначе? И с многими другими тысячами, имени которых не ведал?.. Пальцы собрались в кулак. Нет, то была его часть работы. И матроса ему надлежало вытащить из бездны, а не кому-то другому. Силой тащить всю жизнь — таково было ему назначено от той самой музы. Ничего не осталось для себя: ни сына, ни мягкой теплой травы, куда мог бы опустить свое изболевшееся тело. И некому принять от него рвущиеся из рук вожжи…
Царю сделалось хуже. Пять дней назад по велению его поставлена была возле спальни подвижная церковь. Сегодня он исповедался и приобщился святых тайн. Сам владыка молился тут, с осторожностью посматривая через открытую дверь на лежавшего царя. Тот не двигался и лишь изредка коротко стонал.
Через три дня над больным совершено было елеосвящение. И тут по именному указу освобождены были от каторги все преступники этой державы, кроме повинных в смертоубийстве.
С утра другого дня прощены были осужденные на смерть и каторгу по военным артикулам, но снова исключались из помиловательного списка изверги всякого рода и звания. Шептались, что вместо завещания сии указы.
В тот же день, вскоре после выстрела полуденной пушки, царь велел подать перо и бумагу, взялся писать. Но перо упало и разобрать можно было лишь два слова: «отдайте все…» Чуть слышно сказал он позвать дочь Анну, которая писала обыкновенно ему под диктовку. Она пришла, но царь только смотрел и больше не говорил. Никак не могли потом закрыть ему глаза, сколько ни прикладывали тяжелые медные пятаки. Совсем детское беспечальное выражение стояло в них, и люди крестились, оглядывались на висящую в углу богородицу в темных суровых красках…
Так умер Петр Великий.[1]
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Первая глава
— Ах, Каролинхен!..
Невероятное, горячее томление разливалось по телу. Где-то от низу, из неведомой глубины поднималось оно мерными толчками, приливало к груди, и не властна уже она была над этим. Все трепетало в ней, тело наполнилось сладкой мукой, стало невозможно дышать от счастья…
Но она уже проснулась. Женщина на лошади с хлыстом в руке и гордо посаженной головой оставалась еще какой-то миг в памяти. И судорожное сплетение в некоей комнате, что повторялось всякий раз во сне, оставляя после себя томительную слабость. Ах!..
Ни звука не произнесла она. Второй раз за дорогу случается с ней это. Все так же произошло три дня назад, когда выехали из Шведта. Отца уже не было с ними, и она заснула, освобожденная от его укоряющего присутствия. Равномерное покачивание на рессорах по неровной промерзшей дороге вызывает это сладкое чувство, от которого хочется умереть. А еще — неудобную влажность в белье.
Она осторожно посмотрела на свою мать: та сидела неподвижно, прижавшись спиной к большой перине, устроенной еще в Цербсте от поддувающего сзади ветра. Лица матери не было видно из-за теплой вязаной маски, такой же, как у нее самой, у фрейлины госпожи фон Клйен и у камер девицы Шенк, сидящих напротив. Морозы стояли столь сильные, что волки появлялись на улицах селений. Нет, никто не узнал о том, что происходило только что с ней.
Колеса застучали помедленней, карета качнулась еще раз-другой и остановилась…
— Графиня Рейнбек с дочерью… Королевская подорожная!
Простуженный голос выкрикивал это при каждой остановке. В слюдяное окошко был виден темный каменный дом с такой же темной черепичной крышей, железная решетка, сложенный на пороге торф. Человек в старом капральском мундире кланялся со ступеней дома. Дверь кареты отворилась, протянулась рука: помогла сойти на землю матери, потом ей и другим. Ледяной обжигающий ветер дул из-за дюн, за ними угадывалось море. Толстый господин Латорф, которого она привыкла видеть в расшитом полковничьем мундире с ангальтдорнбургским гербом, был теперь в обычной одежде с суконной накидкой от ветра. Он провел мать в дом, и они вошли следом.
Теплая спертая духота ударила в лицо. Только потом при свете тусклой масляной лампы, висевшей на вьпирающем из стены бревне, она все разглядела: спящих на широкой деревянной кровати пятерых детей — маленьких и больших, в длинных полотняных рубахах, еще ребенка в самодельной люльке-качалке, другую незастеленную кровать с ветхой периной, привязанного за ногу голенастого петуха, собаку у двери. На веревке сушилось белье. За печью на рваном полосатом туфяке недвижно лежала старуха с костистым высохшим лицом и длинными желтыми волосами. В печи стоял котел, в котором булькала вода. Хозяйка, лет сорока женщина в грубом домотканом платье, резала крупными кусками репу и бросала в котел. Увидев входящих, она выпучилась на них, остановившись с недочищенной репой в руке. На раскрашенной спинке кровати, где спали дети, был нарисован ангел, играющий на трубе. Мать брезгливо оглядывала комнату.
— О сиятельная фрау, там есть еще одно помещение, но над ним повреждена крыша и оно не отапливается, — заговорил содержатель станции, по всей видимости, бывший солдат. — У нас редко останавливаются господа, а зимой проезжие ночуют тут с нами.
— Мы лишь поедим здесь! — раздраженно сказала мать, обращаясь к Латорфу.
Слуги внесли корзины с провизией, стали хлопотать посредине комнаты у стола. На грубые некрашеные табуретки постелили холсты, положили дорожные подушки. Они ели разогретую телятину, запивали пивом, которого в Цербсте погрузили на дорогу целых два бочонка. Слуги ели у двери что-то свое. Она быстро освоилась и с интересом смотрела на котел, где булькала вода. Сладко пахло репой…
Отдохнув и согревшись, они поехали дальше. Опять неровно стучали колеса, встряхивая по временам карету на смерзшихся комьях грязи. Она пробуждалась от толчков и тут же снова впадала в полусон, пригретая периной сзади и другой периной, которой были накрыты ноги. Чаще всего вспоминался ей отец. Специально для нее написал он наставление, как вести себя в предназначенном ей великом и неопределенном будущем. Тетрадь лежала в особой сумке из коленкора, которую подарил ом ей два года назад, к ее тринадцатилетию. Отец писал так, что в каждой строке было равное количество букв. Когда выезжали из Шведта, мать передала ей эту тетрадь…
Обязательно раз в неделю, в субботу после полудня, отец звал ее к себе. Он был уже без мундира, в мягких сапогах и домашней куртке с бранденбурами. Сидя в кресле, высокий и прямой, он ровным голосом читал ей истории про нерадивого Штрубльпейтера. Так прозвали этого мальчика за то, что он не слушался родителей, вовремя не стригся и не мылся, водил дурные компании. Поэтому мальчик переносил всяческие неприятности.
Когда на ратуше снова играли часы, отец откладывал книгу, целовал ее, и она уходила к себе. Там, на четвертом этаже штеттинского дома, она сколько хотела играла сама с собой. Мощные удары колокола с городской кирхи сотрясали старое здание. Привставая на носки, смотрела она через окно вниз на расходящихся после службы людей, на загадочное и сумрачное море вдали.
Командир Восьмого королевского полка и комендант городи, ее отец, всегда склонял седеющую голову, когда говорила мать, но и ее считал как бы старшей своей дочерью. В Цербсте, чье имя сочетается с ее именем, стоял старый замок с прямоугольным двором. В линию с ним шли ряды домов с фронтонами, ровные межи разделяли поля на бурой земле.
Она слушала отца и думала о другом. Некие золотые и пурпурные цвета представлялись ей в будущем. С матерью и морем было это связано. Берег моря источал загадочную силу. Оно намывало мелкие россыпи золотого камня, и куски его тускло отливали солнцем далеких времен.
Населяющие этот берег люди обладают умением видеть будущее. Так говорила старшая прислужница в Читинском замке, куда она ездила с матерью. А мать ее происходила от владетелей этого берега, чьи корни значились и по другую сторону моря. В ней была часть их крови. Это должно было в чем-то проявиться!
Когда гостили они в Брауншвейге, как бы из пелены тумана возник монах с желтым неподвижным лицом. «Патер из Менгдена» называли его и просили рассказать о судьбе красивой девочки-принцессы этого дома. Монах мельком посмотрел и равнодушно отвернулся. Вдруг глаза его остановились на ней. Он быстро подошел, положил руку ей на лицо. «Я вижу по меньшей мере три короны на голове у этого ребенка!» — сказал он в наступившей тишине. Мать задержала монаха, и они долго о чем-то говорили у высокого, идущего почти от полу окна. Она услышала, как тот сказал: «У каждого человека, мадам, есть своя звезда, и раз в жизни он должен увидеть ее. Только нельзя говорить об этом во избежание несчастья…»