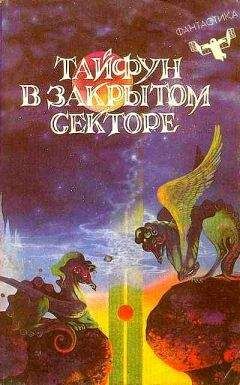Иван Полуянов - Одолень-трава
Под печью курицы копошатся. Маняшка ходит, за лавку держится и канючит:
— Ись, ись!
Петруха с полатей вторит:
— Ись!
Ох, подавиться бы вам… Ухватом я выдернул из печи чугун с картошкой, выставил на стол:
— Лопайте да мамке не сказывайте. Картовь ведь для скота.
Корову, овец сохранить бы, сами как-нибудь перебьемся. Мы — хозяйство справное. Не то что у Овдокши-Квашненка. Пелагея у Овдокши поставит квашню на печь, чтоб хлебы поднялись, так ребятишки еще тестом до дна выхлебают. Мы вполне зажиточные. Пудов пять и заняли ржицы у Деревянного.
Мать за сеном уехала: вчера не все вывезли. Воды-холодянки я плеснул в чугун. Авось не заметит, что картошки поубавлено.
Надел тятин пиджак, подпоясываюсь. Петруха сказал:
— Ты как мужик, Федя.
А то нет? Рукавицы сунул за ремень. Мужик не мужик, а добрая половина мужика. В хозяйстве за большого.
Колун оказался на прежнем месте — под приступком, Сам прятал.
Беда, чурка суковатая попалась. Я ее так, я ее этак хрястну через плечо — не поддается. Лупил, хрястал — на, леший, колун застрял, ни взад и ни вперед.
Отец Павел вышел на крыльцо. Заспанный, ряса мятая.
— Экий содом, брат, учинил.
— Полено суковатое…
Зевает батюшка, рот крестит.
— Недогадливый ты, брат, то и мучаешься.
— Догадливый, — смекнул я, — только ваша матушка гораздо догадливей.
— Ну? — хохотнул отец Павел. — Ужли догадливей?
Умеючи, долго ли на колокольню слетать? Колоколов у нас три, язык крайнего прикручен проволокой. Увесистый язык, чистый бас.
Не впервой мне на колокольню лазить, и всегда задержусь хоть минутку. Сверху на Раменье глянуть — словно крылья растут. Приволье-то, душа радуется. Из края в край волость как на ладони, сразу четыре церкви, купола пузатые, видно вплоть до Богородичного погоста. Рыжие дороги, синие перелески, кровельки избяные под снегом белые… Любо-любо!
С колокольни я спустился с ношей.
Прицелился, наметился — бух, аккурат мимо обуха.
— Еще раз — бух! Чуть по топорищу колуна не залепил.
— Суслон! — забранился отец Павел. — Руки бы тебе отсохли, доведешь колун, уши надеру.
Бух — опять мимо.
— Дай мне, — заело попа. Принял от меня язык колокола и замахнулся наддать по обуху колуна. — Благослови, господи…
Бум! Грянул бас на все село. Полено аж крякнуло. Поди, от одного звона.
И батюшка крякнул:
— Ну-ка ишшо, благое ловясь…
А из форточки:
— Получишь благословение, отец мой! Не пастырь духовный, истинно бурсак!
Вот-вот, не зря я мимо обуха ляпал.
— Это самое, — сконфузился отец Павел. — Застопорилось, это самое, Марфа Ферапонтовна.
— Бурсак! Бурсак! — затворила попадья форточку с треском.
А чего такого? Дьяконица сама своего гундосого на колокольню посылает, когда дровами запасаются.
Мало я поработал, на истопель дров и наколол ли, как позвали в дом. Горница прибрана, пол крашеный, и катанки я снял у порога, босой ступил на половики.
Батюшка толст, попадья еще шире. Они бездетные, меня привечали.
— Щец не плеснуть, Федя? — спросила попадья.
— И я бы откушал, — вставил батюшка.
— Попостись, отец, не похудеешь.
— Матушка, вспомни пророков: «Всяк злак на пользу человека».
— Так то злак, отец мой, а ты постоянно к свинине прилегаешь.
Батюшка с матушкой попрекаются, занятье им привычное, я щи хлебаю и помалкиваю. Маняшку бы с Петрухой за стол: щи наваристые.
После к самовару меня усадили. Марфа Ферапонтовна хлебосольная старуха, не похулишь.
— Революция, — нет-нет и вздыхала она за чаем. — Нас-то хоть не тронут, отец мой?
— Мы — сторона, — с блюдца прихлебывал батюшка. — Проповедники слова божьего, в мирское не вникаем. К тому же нынешний переворот, по моему разумению, вершится с позволения начальства: Государственная дума блюдет законность. Ты, матушка, пророков поминай и людям подсказывай: нет власти, аще не от бога.
Отпустили бы они меня домой! Сижу как на иголках. Поди, мама приехала, пособил бы ей сено в сарай сметать и Карюху распряг…
Попадья со стола убрала и занялась вязанием. Отец Павел пересел в кресло.
Опять буду читать? Чего уж… Не своя воля!
На прошлой неделе начали повесть «Хаджи-Мурат». Граф Лев Толстой — богоотступник, православной церковью проклят, духовным лицам непотребно знаться с его сочинениями — оттого батюшка на глаза жалуется, меня заставляет читать вслух.
Беда, велики сугробы на исходе зимы. Привезла мама сено, умаялась, помочь некому. И пошел я по книжке барабанить, не соблюдая ни точек, ни запятых: авось скорей домой попаду.
— Что бубнишь, ровно дьячок гугнивый? — зыкнул батюшка. — Чти с почтением, оглобля: проза перед тобой.
— «…Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе, — посбавил я прыть. — Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает… Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека, и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что им казалось мертвым телом, вдруг зашевелилось».
Отец Павел привстал, опираясь на подлокотники. Мотал лохматой гривой: «Зашевелилось»! Опустился обратно в кресло и рявкнул:
— Двигай дальше, не томи.
Матушка вздрогнула за пяльцами:
— Паша, непутево рыкаешь, экое же голосище.
— Война, — не обращал на нее внимания отец Павел, креслице под ним трещало. — Война, как она есть, Федя. Небось сабли на уме, Кузьма Крючков с пикой. Вникай, какая она взаправду-то, война.
Воспользовавшись заминкой, Марфа Ферапонтовна спросила:
— А кто такие безбожники, отец мой, что церкви грозят закрыть?
— Большевики, — отозвался батюшка и осерчал, насупился гневно — Вот-вот, вечно ты настроение испортишь, попадья.
* * *Ветер.
Шагаю посадом, под валенками хрупает снег, и ноги сами несут к Пудиному подворью, — всеми окнами горит хозяйский верх.
Людно было у лабазов.
Цигарки вспыхивают. Женщины в стороне от мужиков стоят.
Шум, говор.
— Мужики в России, поди, бар под ноготь берут, как в девятьсот пятом?
— У нас имений нету.
— А кой прок в революции, если так?
— Начинали, тебя, Овдокша, не спросились.
— Чо? — суетился невзрачный, в растрепанной шапке Овдокша. — У нас есть, кого под ноготь! Пуд-Деревянный… Чо? Мало ему тысячных капиталов, за войну сколь он земли и покосов захапал. Чем барину уступит? Раздел надоть по справедливости…
Кто-то нахлобучил Овдокше шапку на глаза:
— Земли тебе. Квашня? На Палашке своей, что ли, пахать выедешь?
Саней, саней-то во дворе: эти — с медвежьей полстью — врача из больницы; вон вятские, задок расписной, — эти землемера Высоковского; гнутые, лаковые — начальника почты…
— Дорогу! Дорогу ослобоните! — растворил ворота Сеня-Потихоня, поднимая фонарь.
Выкатился крытый, с кожаным верхом, плетеный возок. Ездок сам за кучера — дородный, бритый, трубка в зубах.
— Доброго пути, — поклонился Потихоня.
Сердитый ездок подхлестнул лошадь. На повороте санки закинуло, однако они тут же выправились, встали на полозья и понеслись.
— Чуть не задавил! — плевались бабы у ворот.
Широкими окнами светит верхний, хозяйский, этаж.
Музыка, гульба.
— Сам! Сам! — послышалось вдруг.
Все придвинулись к крыльцу. Ведя под локотки незнакомых господ в сюртуках и накрахмаленных манишках, сверху по лестнице спускался Пудий Иванович. Мелькали женские головы с высокими прическами, бороды, шуршал шелк.
— Граждане! — у Пудия Ивановича полыхнул на поддевке красный бант. — Господа граждане! Поперек путей встревал Миколаша, царишка-последыш. Своротили! В Европу выходим, — вперед под локотки выставлял он своих спутников. — Господа доверенные заграничных фирм… Неумытые мы, в назьме по колено, а не брезгает нами Европа! Капиталы идут!.. Ставлю на общество ведро вина… Со светлым праздничком! Народ, пей-гуляй! Бабам — три фунта изюму!
Толпа подхлынула. Пудия Ивановича подняли, на руках понесли в трактир, и за сапог, лакированный сапог благодетеля, держался Овдокша-Квашненок.
Глава III
Тятина жилетка
Верстах в двух от Раменья была водяная мельница, вековуха-развалюха. Мельник как раз ей под стать. Брови белые, лохматые на сморщенном коричневом личике. В усах крошки хлебные. Борода запутанная, сивая в прозелень: бородой Пахом ребятишек пугал, рассказывая, что в ней завелись мыши. Мосластой, оплетенной синими венами ручищей как полезет в бороду: «Эво они, ш-шекотят!» — ребятня с визгом от него врассыпную.