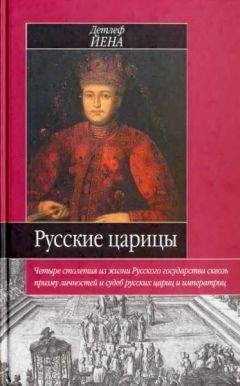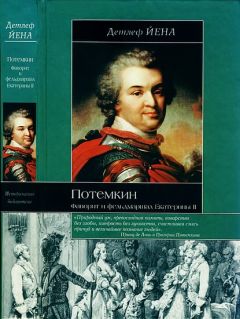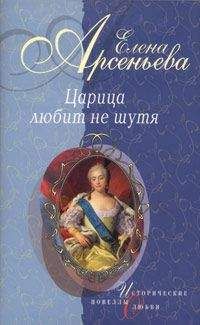Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
– То ладно. Вылезайте. Я пойду.
Ребята молча оделись. Юрась и кругленькая Яня поднялись уже на откос и исчезли за грушей.
– Вот и печку, в которой прошлым летом бульбу пекли, разрушил Днепр, – пряча глаза, сказал Алесь.
Действительно, на откосе, на свежем обрыве, была видна только неглубокая черная ямка.
Они все еще медлили, словно видели Днепр в последний раз. Алесь поставил ногу на большую глыбу земли, косо сдвинувшуюся в воду и наполовину затонувшую в ней.
На той части, которая еще оставалась над водой, спешили доцвести гусиные лапки и желтый подбел. А их братья, под водой, тоже еще цвели, но были бесцветными, словно их оставила жизнь.
У Алеся больно сжало горло.
– Идем, – тихо сказал ему Павел.
От груши к хате вела узкая стежка. По обе ее стороны чернела недавно вспаханная земля, и слишком белыми и тоненькими казались на ней стволы яблонь и вишен, побеленные известкой. Невесомый зеленый пух окутывал деревья, и особенно серой и безжизненной выглядела в этом зеленом облаке старая хата Когутов с надворными постройками, расположенными буквой «п». Стены хаты, сухие, с глубокими трещинами, почти наполовину закрывала надвинутая грибом стреха с таким толстым пластом смарагдового влажного мха, что можно было засунуть в него руку почти по локоть.
Рябины и ирга буйными волнами перехлестывали через корявый плетень, словно старались скрыть от людских глаз его уродство.
Над деревьями уже взлетали бронзовые майские жуки. Солнце клонилось к западу, и в вечернем воздухе звучно щелкал клювом аист на стрехе сеновала.
Дед с младшими детьми сидел на завалинке, длинный, снежно-белый в своей льняной одежде. Сад сажал он. В то время даже в богатом на сады Приднепровье при каждой крестьянской хате было не больше трех-четырех деревьев. Был, правда, приказ шляхетской рады, чтоб каждый сажал сады, но послушался его далеко не каждый.
Дед сидел, бессильно опустив коричневые руки, а над его головой недовольно басили майские жуки.
Невдалеке от него лежала на изрытой курами земле Курта. Лежала на боку, тяжело отвалив набухшие, лоснящиеся соски, страдальчески смотрела на людей.
«Наверно, и не увижу, какие у нее будут щенки», – подумал Алесь.
Дед прорезал ворчливо-ласковым голосом тишину:
– Детки, Юрась сейчас огурцы польет, а вы сходите скиньте с сеновала корове сена… Долго дождя нет, пасется-пасется, а брюхо пустое. Потом поросятам бульбу посечь надо, Марыля сварила.
Мальчики молча пошли за хату. Дед сидел неподвижно и слушал, как воркуют под стрехой голуби. Яня взобралась ему на колени.
– Деда, а басни рассказывать когда будешь?
– Вот хлопцы вернутся, и начну баять.
Дед и внучка молчали. Тишина была особенно полной от воркованья голубей.
Наконец вернулся Юрась и сел рядом с дедом. Штаны его были почти до колен мокры, между пальцами босых ног черные земляные потеки. Из хлева доносилось частое чахканье секача.
– Сегодня Павел с Алесем подрались, – сказал Юрась.
– Кто первый?
– Алесь.
– Тогда ладно… Тогда ничего…
– Почему это ничего?
– А ты забыл, чему вас, детей, учили?
Юрась ответил бойко:
– Покормного панского сына не бить и первым с ним в драку не лезть.
– Правильно, – сказал дед.
Яня ласкалась к старику. Юрась сидел нахохлившись, как галчонок, – видимо, обдумывал что-то. Потом сказал:
– Я что-то не слышал, деда, чтоб его нам за деньги отдали. Сегодня Павел говорил про какое-то покормное и дядьковое… Что это? И почему это только у нас да в Маевщине покормники есть?
Дед перебирал шершавыми пальцами волосы внучки, даже слышно было, как они цеплялись за ладони. Грустно улыбнулся:
– Выводится старый обычай, Юрак. Когда-то по всему Приднепровью и дальше это было привычное дело. Я помню, до французов еще мало кто из панов, православных особенно, не следовал ему… А теперь все реже и реже…
– А зачем это? – спросил Юрась.
Дед разговаривал с ним как со взрослым, и малышу это нравилось.
– Чтоб знали, как достается земля, – сказал дед. – Чтоб не распустились, как собаки. Отдавали, бывало, как только четыре года исполнится ребенку. Кто на три, а кто и на пять лет. И совсем не помогали холопской семье. А потом, когда возьмут хлопца снова в имение, дают мужику покормное за то, что парень съел, и дядьковое, потому что мы все как бы дядьки малому, воспитывали его, разуму учили.
– Уйдет от нас Алесь, – по-взрослому вздохнул Юрка. – Каким еще он потом будет?
– Наверно, все же лучше других, – сказал дед. – Слышал, как соха землю скребет. Только не забыл бы. С отцом его и дедом нам, можно сказать, повезло. Аким, прадед его, тоже ничего себе был. Может, и яблочко по яблоне, может, и не забудет вас и меня… И не дай господи, чтоб был как соседский Кроер…
– Когда его заберут? – спросил Юрась.
– Завтра. Завтра его заберут, – сказал дед. – Только молчите, детки. А теперь беги, Юрка, принеси лиру.
Когда Павел и Алесь вернулись к завалинке, дед сидел уже с потемневшей, захватанной руками лирой на коленях. Медленно, словно пробуя, покручивал ручку, слушал шмелиное гудение струн. Курта глядела на него и тяжело дышала.
– Во, – сказал дед Павлюку, который уже сел на траву, – не любят они, черти, ошейника… как человек. Была у меня собака, никогда на сворку не шла. А тут у меня болячка на шее вскочила. Жена-покойница порвала старую сорочку, обмотала мне шею. Так собака увидела, завизжала и давай прыгать, за горло хватать. Думала, у хозяина ошейник. – Вздохнул. – Ну, то ладно, садитесь. Послушайте, пока наши не вернулись. Песня про жеребенка святого Миколы… Только вот что, Алесь: если ты в Загорщине начнешь рассказывать, какие здесь песни поют…
Алесь покраснел.
– Долго вы тут меня обижать будете? То один, то второй. Я не хуже вас, если нужно, молчать умею… Перед кем мне там распинаться?
Дед внимательно смотрел на него, будто все еще колеблясь.
– Гляди, сынок. Песня тайная. Не при всех своих даже можно… Но все равно. Я уже человек старый. Выслушай мою последнюю науку…
Дед неторопливо повел ручкой лиры, потом неожиданно и резко крутанул ее. Высоким стоном отозвались струны, словно зарыдал кто-то в отчаянии.
Мальчики сидели у его ног, Юрась и Яня лежали с двух сторон, грели животами завалинку, но старый Когут никого уже не замечал. Совсем тихо начал звучать старческий и потому слабоватый, но удивительно чистый голос:
Над землею днепровской и сожской
Пролетали ангелы смерти.
Где летят – там вымерла деревня,
Где присели – там город вымер,
Там житье попам и долокопам.[2]
У Яни широко округлились глаза.
Так с годами край обезлюдел,
Что и ангелам страшно стало:
– Чем прожить, как помрет последний?
– Будет нам летать, – сказал тут главный. –
Надо нам на земле поселиться.
Понастроили они палацев,
Понастроили стен из каменьев.
Весь Днепр меж собой поделили,
Всех людей от края до края…
Дед замолчал на мгновенье, словно пропустив несколько особенно хлестких строк, но струны жаловались, может, даже не менее выразительно, чем слова.
…Понастроили церкви и костелы,
Под молитву ладаном курят,
Задымили, как баню, небо.
Лицо старика стало степенным, почти величественным.
Бог годами сидел и нюхал,
А потом сказал себе Юрью:
– Много дыму до нас долетает,
Дюже мало душевной молитвы.
Твой народ по Днепру и дальше.
Что мне делать с твоим уделом, Юрий? –
И сказал ему Юрий-победитель:
– Ты пошли-ка на землю Миколу.
Он из хлопов, он хорошо рассудит. –
Грозно бог свои брови нахмурил:
– Знаю я людей деревенских,
Вечно они жалуются, ноют,
Ну, а хитростью оплетут и черта.
Я пошлю с Миколой Касьяна.
Этот – пан, он другое заметит. –
Тихо Юрий отвечает богу:
– Знается Касьян с нечистой силой,
Злое сердце у твово Касьяна.
Дед перестал играть. Лишь голос, грустный и скорбный, очень тихо вел песню:
Бог солдата своего не послушал,
Дал приказ Миколе и Касьяну.
Оба живо спустилися с неба
И пошли по весям и селам.
Был Микола в холщовой свитке,
А Касьян в парче золотистой.
Струны вдруг так застонали, что стало страшно. Это были все те же четыре-пять нот, но, кажется, большего отчаяния и боли не было еще на земле.
Ходят, ходят. От жалости-боли
У Миколы заходится сердце:
Панство хуже царей турецких,
Басурманы не так лютуют…
Алесь несмело поднял ресницы и увидел, что пальцы маленького Юрася, сжатые в кулачки, побелели в суставах. Увидел жестко сжатый большой рот Павла. Он и сам чувствовал, что у него прерывисто вздымается грудь и пылают щеки…