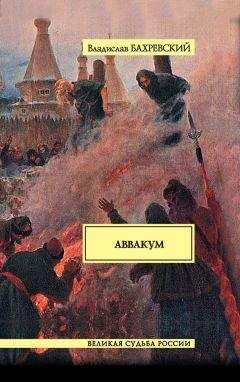Владислав Бахревский - Непобежденные
Старик крутнул головой:
– Батька! Были бы красноармейцы русскими, бабы докричались бы до их совести… А чужие? Чужие, сам знаешь, над русским народом всласть изгаляются… Все клочки сгребли и сожгли. Прямо в церкви. Иконы прикладами расшибали, кресты с куполов сорвали, колокола с колокольни уронили.
Сердце в груди отца Викторина росло и заполнило всю грудь.
– Агафон Семенович! Что-либо от хрустального иконостаса, хоть малость какую, уберегли?
Старик вдруг засмеялся:
– Звон хрустальный уцелел! До сих пор в ушах звенит. Штучек пять подвесок от пятиярусного паникадила имеется. Внучата мои солнышко хрусталями ловят.
– Не понимаю! Я не понимаю! – Отец Викторин всплескивал руками, как птица крыльями. – Уничтожили иконы, кресты… Но часы с боем? Люстры? Паникадила – это те же люстры!
– Четыре! Их было четыре в Казанском! – Сторож перекрестился. – Красота – она тоже Божия. Потому и ненавистна. Попомни мое слово, батюшка! Все, что есть красота, заменят на безобразную погань.
Стояли, молчали. И вздрогнули разом. Тишина вздрогнула. Над Людиновом поплыли гудки заводов – локомобильного и Сукремльского чугунолитейного.
Сукремль к своим железным делам звал густо, по-богатырски. Побудка локомобильного была схожа с паровозными кликами. Паровозы в дорогу зовут, в дальние дали.
– Люблю это время, – сказал отец Викторин. – Когда народ на работу идет – Россию видишь.
– Да, это конечно! Вся Россия руки-то свои несет дело делать! – Сторож, смеясь глазами, смотрел, как легко взбегает отец Викторин на колокольню. На вид суровый, болезненный, но до чего же радостный человек!
Отец Викторин благословлял людей и город на труды. Для властей нынешних молитва и крест – мракобесие. Да Господь Бог Россию не оставит.
С колокольни народа не видно, а вот судьба его как на ладони. Где сходятся границы, там волна волну бьет. В здешнем краю мало двух – три границы сходились: Литвы, Московии, Черниговского княжества.
К Владимиру Красному Солнышку в пресветлый Киев из города своего, из Мурома, богатырь Илья ехал дебрями Брынского леса, скорей всего, через Людиново, и наехал на Соловья-разбойника.
Былины русские упираются в княжескую междоусобицу, но Бог послал на Маковец Сергия Радонежского, и срослось по святой молитве разрубленное на части тело Великой Руси. Вот только народу не пришлось передохнуть.
В Петербурге Петр, в Людинове – Демидов. При Петре железо кнутом добывали, из жил народа. Руда «манинка», копанная для заводов Демидова в Людинове, слезами вымочена.
О петровском крепостничестве, о зверствах Демидова да Мальцова отец Викторин многое слышал от местных жителей. Людиново с окрестностями больше двух веков – царство рабочего народа. Железо и чугун, стекло и фаянс, паровозы и пароходы, локомобили, рельсы, чугунное литье: цветы, решетки, чаши, персидские кувшины, камины… Все это – деяния генерала Мальцова Сергея Ивановича, его преемника Нечаева-Мальцова. Нечаев Музей изящных искусств в Москве построил.
А с народом было все то же. Сергей Иванович отечески призывал пороть сыромятными ремнями по пяти, по шести мастеровых ежедневно. Для вразумления и чтоб не шалили. Того, кто норму не выполнил, тоже пороли. За малое прилежание и ради будущих успехов.
Успехи были изумительные. Гостям давали мирового качества английский напильник и кусок железа из «манинки». Стирался напильник.
Было царство рабочих, теперь – Союз Социалистических Республик, Страна серпа и молота.
Батюшка обнял молчащий колокол, крест поцеловал:
– Господи! Помилуй народ-дитя! Ты же любишь детей, Господи!
Сошел с колокольни лицом ласковый, но глазами далекий. Агафон Семенович ждал батюшку.
– Не даю тебе сокровища хрустального, отец Викторин, сам понимаешь почему. Коли будут снова брать священников и прихожан, о стороже в последнюю очередь вспомнят.
– Я понимаю, – согласился отец Викторин. – Очень, очень надеюсь: люди хранят иконы, сосуды, ризы. Время воскресения нашей церкви придет!
– Чтоб воскреснуть, сначала помереть надобно! – сказал сторож беспощадно.
Ушел.
Отец Викторин смотрел на его посох, на согбенную спину. И вдруг ужаснулся. Увидел Гефсиманский сад. Услышал в себе: «Душа Моя скорбит смертельно».
Душа и впрямь скорбела и стонала. А все ведь слава Богу. Все пока мирно и нестрашно.
Вечер семейного счастья
Олимпиада привезла из Пиневичей красного дерева буфет, аналой (в семье помнили: прапрадедовский, наследство колокольных дворян Зарецких) и две иконы.
Буфет поставили в столовой.
– Праздник! – захлопала в ладоши Нина. – С таким чудом в большой комнате у нас всякий день будет праздник.
Аналой занял главное место в батюшкиной келье. Иконы поставили на божницу.
– «Предвозвестительница»! – прочла надпись Нина. – Какая редкая икона…
– Афонская, – сказал батюшка. – «Предвозвестительница» прославлена в трех афонских монастырях. Иноков Зографской обители Она предупредила о пришедших с мечом и огнем латинянах, в Костамонитской чудесным образом наполнила кладовые припасами, а пустой кувшин – маслом для лампад. Но более всего меня поразил в детстве рассказ о царевне Плакидии. Царевна, нарушая монастырский указ, явилась в Ватопедскую обитель. Богородица спасла багрянородную пленницу от наказания смертью за гордыню. В юности я мучительно искал причину гибели нашего Царя и Царской семьи. Бог наказал? Но за что? Народ русский ведь тоже наказан.
– О таком не следует вести разговоры! – сказала матушка Полина Антоновна.
– В детстве меня тоже пугала история царевны Плакидии, – призналась Олимпиада. – Я горевала об участи женщины. Почему даже непорочным девочкам, святым девам, святым матерям воспрещено молиться на Афонской Горе? Сердцем я и теперь не принимаю такого запрета.
– Про женщин я тебе вот что скажу. – Матушка встала рядом с Олимпиадой, смотрела на икону. – Не пускают на Святую Гору женщин поделом… Ты приди на службу в нашу церковь. Бабки не столько молятся, сколько судачат о батюшках: отец Викторин уж очень-де печется о бородке своей, а вот отец Николай, как лесник, зарос. Углядели, что я дырочку на батюшкиной рясе заштопала.
Отец Викторин кашлянул:
– Помолимся. Нина все уже на стол поставила. Помолились. Сели.
– Батюшка, дочь-то у нас выросла.
– Восьмой закончила? – спросила тетушка.
– Восьмой. А я уже тревожусь: примут ли в институт? – Матушка вздохнула.
– По Конституции все равны. Лишенцев теперь нет. Это нам запрещено было учиться в вузах, детям попов… У твоей дочери, Полина Антоновна, даже красота умная.
Нина засмеялась:
– Это у меня от учительницы. Она меня школит, как в пансионе благородных девиц.
Полина Антоновна взглянула на отца Викторина.
– Мы как сюда из Огори переехали, стали Ниночку немецкому и французскому учить. Мадам Фивейская преподавала когда-то в гимназии. – И снова посмотрела на батюшку.
– Согласен, – улыбнулся глава семейства, – это все представляется нелепым. Рабочий городок Людиново, дочка попа, никакого тебе высшего общества, заграничных вояжей… Но знание языков являет собой уровень культуры. Нина свободно читает Гёте. А Гёте на немецком языке – это иное, чем Гёте, улучшенный переводчиками.
Матушка подложила Олимпиаде на тарелку Ниночкиной стряпни:
– Оцени, как она у нас готовит!
Нина, сердясь, глаза в потолок подняла:
– Наверное, так расхваливают невест перед родителями женихов.
Отец Викторин рассмеялся:
– Нина! Ты же наше единственное богатство, единственная радость. Потерпи. А лучше всего – почитай нам.
Обед был с кагором. Щечки у Нины разрумянились. Она не спорила, почитала Гёте, стихи Виктора Гюго. Впрочем, с некоторым умыслом. Чтобы досадить, выбрала стихотворения весьма пространные.
Не досадила. Французская речь, немецкая речь… Музыка, и какая разная!
Отец Викторин взял книгу, привезенную Олимпиадой.
– Я словно бы в пенатах батюшки и матушки. С детства испытываю трепет, когда в моих руках этот том. «Полное собрание сочинений В. А. Жуковского. В двух томах. Санкт-Петербург. Книжный склад «Родины», Литовская улица, собственный дом № 114. 1902 год». Все это было жизнью, у всего этого был адрес.
Открыл наугад.
– «Граф Габсбургский» (Из Шиллера). «Ундина» (Старинная повесть из Ламот-Фуке). А вот и «Светлана»!
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали…
– «К Нине»! Слушай, Ниночка:
О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?
– Не надо! – запротестовала матушка.
– Хорошо. Будет вам «Фиалка»:
Не прекрасна ли фиалка?
Не прельщает ли собой?
Не амброзией ли дышит
Утром, расцвета весной?
То алеет, то бледнеет
Сей цветочек в красный день;
Сладкий дух свой изливает,
Кроясь в травке там, где тень.
Что же с нежною фиалкой,
Что же будет с ней, мой друг?
Ах, несчастная томится,
Сохнет и увянет вдруг…
– Ужасные стихи! – замахала руками Олимпиада.