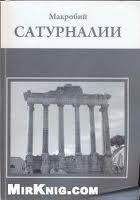Андрей Посняков - Московский упырь
– Ты, кажется, обещал яблок нарвать?
– Угу… Обещал… Давай еще поцелую!
– Сначала нарви…
– Сейчас…
Раскрасневшийся Федотка поднялся на ноги и, скинув кафтан, погладил ладонью шею:
– Ух и славно же!
– Беги уж… славно…
Марьюшке и самой, конечно же, тоже было славно, да только вот признаваться в этом она вовсе не собиралась. Вот, пускай, Федотка сбегает за яблоками, охолонет чуток… Потом можно и по новой, лишь бы вечерню не пропустить. А пока… Пока можно и помолиться…
Встав, девушка запахнула саян и перекрестилась на дальнюю колокольню:
– Господи Иисусе…
А хорошо Федотка целуется, интересно, где научился? С дворовыми девками аль в каком вертепе?
– Господи, прости меня, грешницу…
Может, позволить ему весь саян расстегнуть? Ага… этак потом и до рубахи дело дойдет… Ах…
Марьюшка от волнения закусила губу. Ну, где ж этот Федот? Чего-то он долго за яблоками ходит…
Где-то за оврагом замычали коровы. Потом заржала лошадь, истошно залаял пес, за ним – еще один. Вот, кажется, кто-то вскрикнул… Яростно так, с болью… Верно, кого из дворовых хозяин порол на конюшне. Оно конечно, со слугами только так, по строгости, и надо, тем более в нынешние неспокойные времена, когда даже про самого царя говорят, что он и не царь вовсе! А истинный царь – царевич Димитрий, Иоанна Грозного сын, объявился якобы в Литве или в Польше. Господи! Вот уж мысли-то какие крамольные! Крамольнее некуда. Лучше уж о ласках да поцелуях думать. Интересно, чего там Федотка так долго с яблоками возится?
Меж тем уже начало смеркаться. Покрасневшее, словно бы выгоревшее за день солнце скрылось за Чертольскими воротами, протянув от стены и башен длинные черные тени почти до самой стены, отгораживавшей земляной город от белого. Скоро, однако, вечерня… Черт, не заявился бы раньше времени лодочник! И Федот тоже… хорош… «Целоваться, целоваться», а как дошло до дела – так на тебе, в кусты, вернее, за яблоками. И чего так долго ходит? Словно на Скородом отправился, прости, Господи.
Девушка подошла к оврагу, покричала:
– Федо-о-от! Федотий!
Никакого ответа, лишь собаки за Черторыем еще громче залаяли.
– Федо-о-от!
Не откликается. Самой пойти посмотреть? Вон они, яблони, близко. Летник не украдут у копны? Не должны: вроде бы нет никого…
Ловко перебравшись через овраг по узкой тропинке, девушка направилась к яблоням – нет, все-таки это, скорее, был запущенный сад – и вдруг, прямо на тропинке, между деревьями увидала мелкую белеющую вещицу… Марья наклонилась… Костяной гребень с ошкуем! Тот самый, только что подаренный…
– Федоо-о-от!
И страшно стало вдруг, до жима в груди и горле, и чья-то темная, показавшаяся вдруг на миг огромной, тень закрыла небо…
– Э-ге-гей!!! – громко закричал кто-то неподалеку.
И тень исчезла, бесшумно, как морок. А может, и не было никакой тени… Так, показалось…
– Э-гей!!!
Девушка бросилась на крик:
– Кто здесь? Ты, Федотка?
– Нет… Это я, Гермоген. Лодочник.
Взъерошенный рыжий парень с веслом в руках вынырнул из-за кустов:
– Кричу вас, кричу… Сами же говорили – к вечерне успеть. Где отрок-то?
– Сама ищу… Давай-ко покричим вместе.
– Давай.
– Фе-то-о-от! Федотий!
– Может, он уже к лодке пошел?
– Да не должен бы без меня…
– Ну, тогда вон, по тропинке пройдемся, поищем…
– Что ж он не откликается-то, Господи?!
Бугорчатый шар луны уже повис в темнеющем небе медно-кровавым тазом, потихоньку зажигались звезды.
– Постой-ка… – Марья вдруг замедлила шаг. – Ничего тут, на тропинке, не видишь?
– Нет… А что, должен бы?
– Гребешок тут лежал… Красивый такой, белый, с ошкуем…
– С каким еще ошкуем? – недовольно обернулся лодочник.
– Ну, медведь такой, белый…
– Не, не видал… Вон, за теми кустами посмотрим – и к лодке. Да наверняка он давно там уже.
Ринувшись напролом, лодочник деловито захрустел кустами… И тут же выскочил обратно на тропинку с остекленевшим взглядом.
– Там… там… – дрожащим голосом произнес он. – Там…
– Да что там?
– Тебе… тебе лучше не смотреть.
– Нет, пропусти!
Такая уж она была, Марья, дочь кузнецкого старосты Тимофея Анкудинова сына, упрямая – уж если чего захочет, ни за что не отступится! Вмиг смахнула лодочника с пути, наплевав на саян, продралась сквозь колючие заросли…
Она даже не плакала… пока еще не плакала. Просто стояла, не в силах поверить в увиденное.
Ее троюродный братец Федотка лежал на спине, и в немигающих, широко раскрытых глазах его отражались луна и звезды. Исказившееся в гримасе боли и ужаса лицо его даже в лунном свете казалось бледным, а все тело представляло собой сплошное кровавое месиво.
– Господи… – в ужасе промолвила Марьюшка. – Господи… Словно ошкуй порвал… Ошкуй…
Глава 1
Правое ухо царево
Семен Годунов попытался расширить систему сыска в стране.
Р. Г. Скрынников. Россия в начале XVII в. Смута– Ну, что стоите, брады уставя?! – ближний родич царя боярин Семен Никитич Годунов прямо-таки дымился от гнева. Черная, чуть тронутая проседью борода его дрожала, толстые губы нехорошо кривились, красный мясистый нос дергался и сопел.
Трое навытяжку стоявших перед боярином юношей – Иван, Прохор и Митрий – обливались потом. И вовсе не потому, что так уж боялись царского родича, просто большая изразцовая печь, занимавшая чуть ли не треть горницы, истекала жаром. Семен Никитич – куратор Земского двора и фактически возглавлявший Боярскую думу, как и царственный брат, любил тепло, зная о том, прислуга топила печи, не жалея ни дров, ни страдавших от невыносимой жары посетителей.
– Ну? – уже потише, но с явным металлом в голосе промолвил боярин. – Что скажете в свое оправдание? Третий растерзанный мертвяк на Москве, – а им хоть бы хны! – Семен Никитич снова повысил голос аж до визгливого крика: – Три мертвяка! Растерзанных! За один только январь месяц! Вы когда душегубца ловить думаете? Или некогда? Что молчите?
– Да мы ловим, – негромко возразил Иван.
Высокий, стройный, с карими чувственными глазами и шевелюрой цвета спелой пшеницы, он отпустил над верхней губой небольшие усишки, а вот бороду еще не успел отрастить, все ж таки неполные девятнадцать лет – рановато для окладистой бородищи, хотя, вот, к примеру, у Прохора борода все же росла, а он был не намного и старше. Окладистая такая, рыжеватая, не особенно-то и красивая на Иванов взгляд, но тем не менее Прохор ею очень гордился, лелеял и холил. Так что выражение «брады уставя», пожалуй, можно было бы отнести лишь к нему одному, если б боярин выражался фактически, а не фигурально. Ну, не было у Ивана никакой бороды, а уж тем более у их третьего приятеля – Митрия, по прозвищу Митька Умник. Тот – худощавый, смуглый, темно-русый, на левой руке родинка около большого пальца – вообще был в компании самым младшим, едва шестнадцать исполнилось. Тоже стоял вот, уткнувшись серыми глазищами в пол, молчал – ну а что тут скажешь? Прав был боярин, кругом прав, как ни крути.
Три трупа за истекшую неделю – это и впрямь не очень-то хорошо, даже по московским меркам, тем более для всей троицы. Ведь парни-то имели к этим мертвякам самое прямое отношение – нет, не убивали, конечно, наоборот: убийц должны были вычислить и найти в самые кратчайшие сроки. Для того и служили в Земском приказе, в самом тайном его отделе, под непосредственным руководством думного дворянина Андрея Петровича Ртищева, старого знакомца ребят еще по французским делам. Он-то и призвал ушлых парней к службе, и весьма благоволил. Приказные же дьяки сию троицу так и прозвали, с насмешкою – «отрядец тайных дел», ну а Митька для благозвучия переиначил в «отряд тайных дел», так и впрямь куда лучше звучало. И в самом деле, сравнить только – «отрядец» или «отряд»?! Что лучше звучит? То-то же.
– И ладно бы черных людишек поубивали, – не обращая никакого внимания на Иванову реплику, продолжал разоряться боярин. – Пес-то бы и с ними… А то ведь – каких людей родичей! Знатных бояр, купцов богатейших… Эх… Да ведь как убили-то препохабно, истерзали всех, яко волчины, Господи, спаси и сохрани!
Семен Никитич мелко перекрестился на висевшие в углу иконы в золотых ризах. Иван тоже хотел было последовать его примеру, но сразу передумал – еще неизвестно, как бы к этому отнесся боярин. Слушок был: третьего дня, после обедни так Семен Никитич изгваздал посохом какого-то заезжего купчишку за то, что тот посмел подойти к висевшим в церкви годуновским иконам, – бедняга едва жив остался. И поделом – нечего креститься на чужие иконы, вот свою икону в церкви повесь, на нее и крестись, ей и молись, а хочешь – ликом к стене поверни, в качестве наказания, такое вот интересное было в Москве православие. Иван с Митрием над этим промеж собою смеялись, а Прохор только рукою махал – пусть себе на что хотят крестятся, хоть на иконы, хоть на тележное колесо, вообще, религиозные споры Прохора мало трогали, иное дело – кулачные бои.