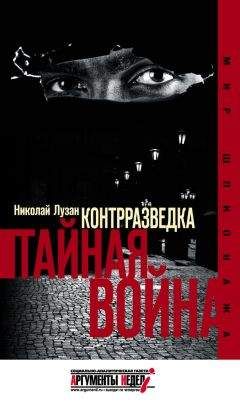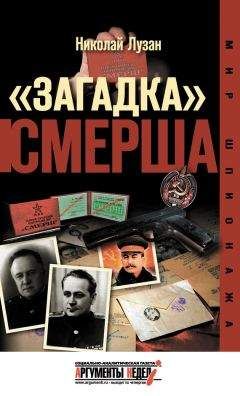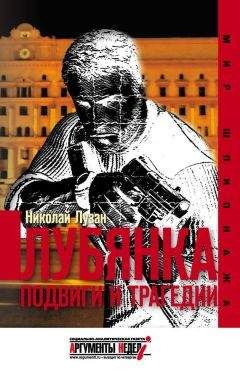Дмитрий Балашов - Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь: трилогия
Об учителе надобно написать! В назидание грядущим по нас, ибо мы уходим, уходит наш век и мы вместе с ним.
Он, Федор, не сможет этого содеять! Слишком близок и слишком дорог ему покойный "дядя Сережа". Иные многие воспоминания и не передашь бумаге! Быть может, Епифаний? Или кто иной из Маковецкой братии? Писать о тех, кого знал и ведал живыми, безмерно трудно. Не ведаешь, о чем надобно молвить и о чем умолчать. Как поймут иное не ведавшие великого старца грядущие книгочеи? Как передать, наконец, истинное величие его простоты? Не станешь ведь рассказывать о том, как именно наставник шил рубахи и охабни, или тачал сапоги, или резал кленовую, липовую ли посуду, шепча про себя слова молитв? Шьют, режут и тачают обувь многие, так же точно сжимая в руке резец и долото, иглу или сапожный нож, но немногие при том становятся святыми!
Нет, ему не написать о наставнике! Довольно того, что он начертал красками его образ! Успел начертать… Позже он хотел изобразить Сергия красками уже на дереве, но что-то удержало. Не имел права до канонизации изображать учителя святым, а иначе не мыслилось. Парсуны, как у латинян, пока еще не писали на Руси.
Федор смежает очи, и одинокая нежданная слеза скатывается по его впалой щеке, исчезая в завитках поседевшей бороды. Жить ему остается недолго, очень недолго, и он сам, не обманываясь, знает об этом. И когда, в исходе ноября, наступает неизбежный конец, Федор успевает приготовить себя к нему, собороваться и причаститься.
На улице, за окнами, снег, метет метель, а он, в свисте метели, угадывает идущий от Пропонтиды соленый ветер и улыбается ему, очи смежив. Земной путь пройден, и долг, начертанный ему Господом, исполнен, худо ли, хорошо. Вокруг ложа сидят верные прислужники, последователи, ученики. Игуменья Рождественского монастыря с тремя инокинями тоже тут. А он сейчас вспоминает Афанасия, ушедшего в далекий Константинополь, и снова Маковецкую обитель, такую, какой она была в прежние годы, затерянная в лесах, едва заметная, и наставник его, родной дядя Сережа, Сергий Радонежский, был еще молод и крепок, и так сладко было ему, Федору, быть рядом с ним! Останься он на Маков-це, был бы сейчас на месте Никона… Нет, не та судьба была суждена ему! И все, совершившееся в жизни, совершилось по воле Создателя, который мудрее и превыше всего и вместе начало всему. Иного, сказанного еще Дионисием Ареопагитом в глубокой древности, не скажет никто и в грядущих неведомых веках.
Много ли он, Федор, содеял в своей жизни? Все ли должное совершил? Аще чего и не возмог, да возмогут грядущие вослед! Жизнь не остановит свой бег с его успением. Жизнь не кончается никогда! И за то тоже надобно благодарить Господа!
Умер архиепископ Федор двадцать восьмого числа ноября месяца 1394 года и похоронен у себя, в Ростове, "положен бысть в соборней церкви святыя Богородицы".
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Обещанный Софьей сын родился тридцатого марта. Младенца назвали Георгием. Софья лежала на подушках усталая и счастливая, с голубыми тенями в подглазьях — роды были трудные. Василий держал в ладонях ее потные исхудалые руки и готов был все сделать, на все согласиться ради нее, даже и на эту клятую грамоту Витовтову был почти согласен, по которой тесть, через Соню, предлагал ему заключить ряд, направленный, по сути, противу рязанского князя Олега, да и против смоленских князей, коих, согласись он на Витовтовы предложенья, Москва бросала бы на съеденье Литве.
Зимой Витовт совершил очередной набег на Рязань. Пограбили волости и ушли. Олег просил о помощи согласно старым перемирным грамотам, заключенным еще покойным батюшкою (быти заедино противу татарина альбо литвина), и Василий, не очень тогда расположенный помогать Олегу, собирал Думу.
Князя Олега не любили на Москве. Всеми помнилось взятие Лопасни, недавний погром Коломны, а гибельного боя под Переяславлем-Рязанским даже добродушный Владимир Андреич простить Олегу не мог. Вновь и вновь повторяли нелепую басню о якобы указанных Тохтамышу бродах на Оке, словно бы любой татарин, гонящий косяки коней на продажу, не ведал всех этих бродов лучше всякого русского князя! (И будут повторять ту нелепость шесть столетий подряд и еще неведомо сколь, не беря в толк никакие разумные доводы.) Любят, не любят всегда не за то, что содеяли тебе, а за то, что ты сам совершил для человека. Великий Тимур, когда-то облагодетельствовавший Тохтамыша, по слухам, перед самою смертью мыслил, сменяя гнев на милость, вновь посадить неверного хана на ордынский престол. И тогда, возможно, вся история Руси пошла бы иначе. К счастью, или к сожалению, не успел.
Не любили Олега, и что могла решить Дума? Акинфичи все были против него, Всеволожи тоже, Кобылины устранились, за помощь был едва ли не один Иван Мороз. Дума, поспорив и погадав, высказалась за то, чтобы рать не посылать, решить дело миром. На деле это означало, что Олега оставляют без помощи, один на один с Витовтом. Но не было уже в живых Сергия Радонежского, заключавшего ряд с рязанским князем, не было и его племянника, Федора, не было уже самого князя Дмитрия. Вновь возникли нелепые слухи об "измене" Олега (рязанские черноземы не одним Акинфичам мешали спать спокойно). Так ли, сяк ли, а решили не помогать. И… Мог Василий поиначить боярский приговор, мог! Но вмешалась Софья.
И вот теперь, когда он готов на колени стать и целовать ее потные пальцы, когда она наконец наградила его наследником, Соня, только что отнявшая малыша от голубой раздавшейся груди (начинала кормить сама, потом уж передавала младеня кормилицам), говорит вновь о дружбе с Витовтом, о том, что надобно помочь отцу, что его утесняют и немецкие рыцари, и Ягайло, что рыцари отравили ее братьев, обоих Витовтовых сыновей (о чем думал тесть, когда жег рыцарские замки, не вызволив прежде детей из затвора!), что он несчастен, что ему не на кого опереться, кроме Василия…
Литва, невзирая на все свары и ссоры, росла, как опара, вылезающая из квашни, уже к самым ближним рубежам Владимирской земли подбираясь, проглатывая Северские княжества одно за другим, нависая над Новгородом и Псковом. Не видя Соню, Василий понимал все это, но тут, у постели любимой, глядя в ее ставшие огромными после пережитого страдания глаза, вновь переставал понимать что-либо.
Он зарывается лицом в подушки, не хочет думать, она перебирает пальчиками его кудри и говорит, говорит… И хорошо, что Василий сейчас не видит ее лица, победно-торжествующего, несмотря на слабость и пережитую муку.
— Погоди, — шепчет, — потерпи еще немного! (Терпеть надобно всяко: Пасха нынче одиннадцатого апреля, а Великим постом и без того не грешат! Да и сразу-то после родов…) Но Соня шепчет так, словно все можно, и можно немедленно, и только любовь предлагает ему искус ожидания. И он не выдерживает, срывает одеяло, как безумный целует ее ноги, тоже исхудалые и потные, а она все гладит его по волосам, почти не сопротивляясь, и только повторяет:
— Пожди, пожди еще немного, ладо мой!
Василий едва опоминается, дрожа. Вновь закрывает ее крытою шелком оболочиной… Да, да! Нет у него высокого каменного терема с круглящимися в вышине ребристыми сводами, нет рисунчатых стекол в окнах, забранных слюдой. Нет танцев с музыкою, нет менестрелей, нет рыцарских турниров, не так роскошны даже княжеские пиры, многого нет! Красота его страны — в золоте церковных облачений, в пышных службах и пасхальных процессиях да еще в свадебных торжествах, которые, однако, ведутся по тому же единому обряду, что в крестьянской, что в боярской, что и в княжеской семье… Всего того, к чему привыкла ты там, у себя, на Западе, здесь нет, хотя в твоей Литве нету даже и того, что есть у нас. Но Витовт хочет быть королем. Витовт хочет передолить Ягайлу… И вот главная труд нота: не хочет ли он и Русь забрать под себя?
Так или иначе, Олегу не помогли. Справили Пасху. О суздальских князьях не было пока ни вести, ни навести. Да и Тохтамыш с ратью, по слухам, отправился куда-то за Куру, в Азербайджан, в Арран ли, новым походом на Тимура, и можно было пока не опасить себя возможною потерею Нижнего.
Киприан деятельно вникал в дела митрополии, восстанавливая порушенные святыни и угасшую было при Пимене работу владычных мастерских и книжарен, предупредивши, однако, Василия, что на тот год ладит направить стопы свои в Киев, и надолго, дабы не дать католикам слишком укрепиться в Подолии и Червонной Руси.
Знатный иконописец Феофан Грек был уже загодя перезван в Москву и готовился, лишь отдадут морозы и просохнут стены, взяться за роспись церкви Рождества Богородицы. Уже собралась иконописная дружина, дюжина учеников и подмастерьев во главе с самим Феофаном и Семеном Черным. Четвертого июня церкву начали подписывать, и мать, Евдокия, долгими часами не вылезала оттудова, радуясь тому, что созданный ею храм принимает наконец пристойный и прелепый вид.