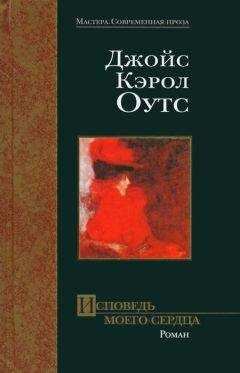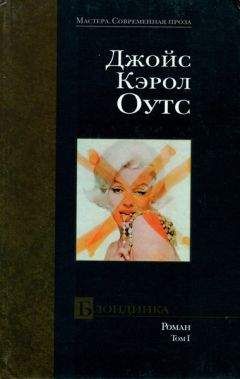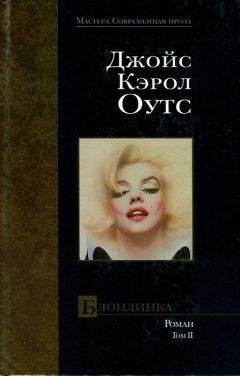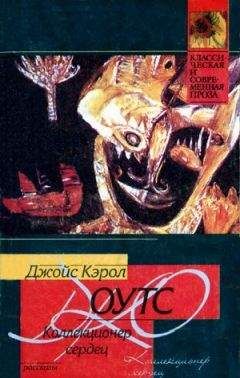Сага о Бельфлёрах - Оутс Джойс Кэрол
Первые годы в Америке, в качестве совсем еще юной госпожи — пока десять беременностей не подорвали ее здоровье и бедняжкой не овладела печально известная Бельфлёрова меланхолия, — Вайолет и сама нередко разъезжала на двуколке или в карете своего мужа, черной, с золотой инкрустацией. Управлял каретой чернокожий кучер в ливрее и красно-золотой феске — не раб, а освобожденный уроженец Берега Слоновой Кости; гибкий и даже с кнутом в руках не теряющий изящества, он управлялся с лошадьми, словно кудесник. Он возил жену Бельфлёра в гости к подругам — женам других господ, живших в Долине в замках «под старину» и наскоро отстроенных «родовых» поместьях (тогда, в пятидесятые-шестидесятые годы XIX века, ряд северных регионов был охвачен лихорадочным обогащением), и все встречные отмечали аристократическую красоту парных чистокровок, их холеную темно-гнедую шерсть, блестевшую от выписанных из-за границы масел, расчесанные гривы, порой даже заплетенные в косы, и восхищались бледной, неброской, но поразительной красотой женщины, сидящей в карете с геральдическими символами на дверце. «Это леди Вайолет», — бормотали наиболее преисполненные благоговения, вероятно, понимая, что Вайолет Одлин — всего лишь «миссис Рафаэль Бельфлёр», но не забывая о великих амбициях ее мужа — да, мужа, но не ее собственных. Потому что собственных амбиций у Вайолет, носившей украшенные цветами шляпы с огромными полями и вуалью, было не много. А в конце концов их не осталось вообще.
Старший сын Бельфлёров Сэмюэль перед своим трагическим исчезновением — впрочем, позже эти слова стали приписывать другим членам семьи — однажды сказал: Время — не едино, оно есть россыпь мгновений. Пытаться удержать его — все равно что нести воду в решете. На свой двадцатый день рождения он получил одного из великолепных английских скакунов, принадлежавших его отцу, — гнедого жеребца, широкогрудого, поджарого и длинноногого, по кличке Ирод. Юный Сэмюэль, отцовская гордость, был гвардейским офицером в Чотокве, и военная форма выгодно подчеркивала его красоту Бельфлёровой породы — волевой подбородок, точеный нос и глубоко посаженные глаза (спустя годы, разглядывая выцветшие, бледно-рыжеватые дагерротипы, не позволяющие по достоинству оценить сочетание цветов высокой, отделанной мехом шляпы, щегольского белого мундира, зеленых брюк с ослепительно белыми лампасами, плотно облегающих руку белых перчаток, пунцового орнамента на ножнах, грядущие поколения черствых, не проникнутых должным почтением детей называли эту форму смешной). Восседая на величественном Ироде, Сэмюэль в буквальном смысле олицетворял аристократию Нового Света. Кто не проникся бы пониманием к чувствам его отца или не разделил бы с ним гордость за такого сына?.. Молодой Бельфлёр вызывал зависть у сослуживцев и даже у начальства (ах, эти сослуживцы-офицеры! Все они, подобно Сэмюэлю, были сыновьями процветающих землевладельцев; всех их, как и остальных родственников-мужчин, приводили в восторг лошади-чистокровки, военные шествия и церемонии, сабли и мушкеты, новинки вооружения и военная наука, и, конечно, они жаждали отомстить вероломным конфедератам, наказать их и поставить на колени. Сильнейшее воздействие оказывала на них и военная музыка: когда играли такие мелодии, как «Звездно-полосатое знамя», «Марш Бьюкенена», «Моряк из Триполи», «Да здравствуют братья солдаты!» — у них на глаза наворачивались слезы и они ощущали почти физическую потребность ринуться в битву. Всем им, кроме Сэмюэля Бельфлёра, было суждено участвовать в войне 1861 года, и если не все они пали в сражениях, то тягостных страданий не избежал никто; да и прекрасные их лошади прожили еще от силы несколько месяцев).
Феликс (позже, очевидно, в приступе помешательства, отец даст ему новое имя — Плач Иеремии) обожал в детстве своего Бербера — шотландского пони с большими выразительными глазами, дивной шерстью в бело-серых яблоках и длинной густой гривой — когда ее расчесывали, она искрилась удивительным внутренним светом. Когда Феликсу было пять или шесть лет, его возили по недавно проложенным дорожкам, усыпанным розоватыми ракушками и гравием, в запряженной пони двуколке, изготовленной (если верить болтовне соседей) для одного прусского принца. Иногда ею управлял всё тот же чопорный чернокожий кучер в феске и расшитом камзоле, а иногда — местный паренек, сын бригадира сборщиков хмеля, одетый во все черное, неказистый, с одним лишь легким кнутом, более подходящим для женской руки. Сидел он, словно кол проглотив, и упорно не вступал в разговор со своим скромным маленьким пассажиром, у которого не имелось друзей, и даже братьев будто не было: Сэмюэль был намного старше и не обращал на него внимания, а Родман, на два года старше, тешил свое самолюбие, тираня Феликса. Похищение произошло августовским утром, когда изящной миниатюрной повозкой управлял сын бригадира — его нашли в канаве с проломленным черепом, и тогда стало очевидно, что он ослушался приказа Рафаэля и повез ребенка к реке, где, в подтверждение опасений постепенно теряющего разум Рафаэля, их и ждали похитители (жизнь аристократов Долины нельзя было назвать спокойной: жители Чотоква, которым теперь запрещалось охотиться и рыбачить на землях, некогда считавшихся их собственными или ничьими, обвиняемые в нарушении границ частных владений и «присвоении» земли, стоило им лишь немного зайти за границы своих невеликих наделов, стали чинить мелкие неприятности — устраивали поджоги, разрушали плотины, травили скотину. А порой их месть приобретала более опасные формы: они пытались подстрелить соседей-богачей, когда те колесили по окрестностям в своих сделанных на заказ каретах, причем стреляли местные жители отменно). Когда в конце концов стало ясно, что бригадирский сын не только навлек несчастье на собственную голову, но и позволил похитить Феликса Бельфлёра, Рафаэль при свидетелях заявил: «Если бы этот маленький ублюдок был жив, я бы собственными руками размозжил ему башку…» Около трех недель спустя Феликс объявился живой и невредимый в Новом Орлеане — к тому моменту он уже успел перенять южный выговор, мягкий и тягучий. О похитителях или похитителе он ничего не знал, и даже не само похищение, а равнодушная безмятежность, с которой Феликс отнесся к горевавшему все это время отцу, заставила Рафаэля не просто сменить ему имя, но и заново окрестить — как Плач Иеремии. «Но что с Бербером? — вскричал мальчик. — Где Бербер?..» Покорный шетландкий пони пропал, хотя повозку нашли почти сразу же — перевернутая, она лежала неподалеку в сосновом бору.
— Где Бербер? Куда вы его подевали? Верните мне Бербера! — плакал мальчик, отворачиваясь не только от отца, но и от своей безутешной матери.
Из всех потомков Иеремии, из его трех оставшихся в живых сыновей, лошади интересовали лишь деятельного, неуемного Ноэля — в зрелые годы за ним окончательно закрепилась слава чокнутого лошадника. Если бы дела поместья не отнимали у него почти все время (потому что его отец, которому едва исполнилось пятьдесят, становился все более беспечным и все менее рачительным), Ноэль непременно объехал бы всю страну и, возможно, добрался до Мексики и Южной Америки, выискивая лошадей, достойных стойла Бельфлёров. Он занялся бы выведением настоящих скакунов и нанимал профессиональных жокеев, отправлял бы лошадей на такие скачки, как Гавр-де-Грейс, и Беннингс, и даже Бельмонт-Парк. Его брат Хайрам, изучавший в Принстоне древние языки, в юности проникся страстью к «миру», как он выражался, финансов и лошадьми нисколько не интересовался — его не трогали ни их очарование, ни их непередаваемый запах, ни само их магическое присутствие (которое в трудные времена так успокаивало и самого Ноэля, и его сына Гидеона — неоднократно отец и сын, пробравшись в темную конюшню, вдруг сталкивались там. Оба приходили туда всего лишь постоять рядом с лошадью, обхватив ее послушно склоненную шею и прижавшись щекой к сухой колючей гриве, пахнущей истинными сокровищами — солнцем, жарой, простором полей, бесконечными дорогами, по которым, поднимая клубы пыли, можно скакать вечно). Что же касается старшего брата Ноэля — Жан-Пьера II, — то в нем на какое-то время пробудилась присущая юноше его общественного положения страсть к красивым лошадям, однако ездоком он был скверным, за собственными лошадьми никогда не ухаживал, с хлыстом управлялся неумело и в молодости вечно оказывался на земле — либо лошадь его сбрасывала, либо он натыкался на низкие ветви деревьев, под которыми зловредная скотина норовила проскакать. К тридцати годам он совсем забросил это занятие. (Что и стало основным аргументом защиты, когда Жан-Пьера судили за предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, потому что единственная сумевшая сбежать от убийцы свидетельница утверждала, будто Жан-Пьер ускакал прочь на черном коне в трех белых «носках» и с коротко стриженными гривой и хвостом. Такая лошадь действительно имелась в конюшне Бельфлёров. Если, конечно, свидетельница не лгала — если весь суд и, возможно, даже убийца одиннадцати человек (среди которых были и двое Варрелов, и местные, не заслужившие особого уважения) не руководствовались лишь желанием затравить, покрыть позором, унизить и уничтожить род Бельфлёров. Свидетельницей была жена трактирщика — болтливая и подлая, она с самого начала по неведомой Жан-Пьеру причине невзлюбила его. И неудивительно, что неразбериха, случившаяся тем вечером, прерванные карточные партии, перевернутые столы и стулья, крики, переросшие в вопли, не поддающиеся описанию трагические события той ночи в Иннисфейле — все это привело к тому, что трактирщица вбила себе в голову, будто убийца — Жан-Пьер. И представитель защиты, хотя и в совершенстве освоивший искусство перекрестного допроса и умеющий произвести впечатление как на присяжных, так и на судью, рассуждая с изысканной мудростью, которая вкупе с отточенными формулировками не могла не растопить сердец, — даже он был не в состоянии разубедить свидетельницу. Убийца — Жан-Пьер Бельфлёр, унесшийся прочь на черной или темно-гнедой лошади с белыми «носками» на трех ногах, с коротко стриженными хвостом и гривой, и скакавший — дерзко заявила подлая старуха — искусно, будто сам дьявол!).