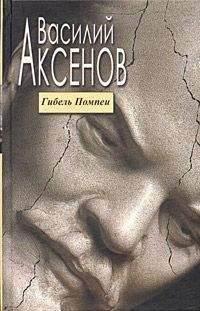Аннелизе Ихенхойзер - Спасенное сокровище
Возвращение
Прошло несколько дней. Пассажирский поезд из Галле приближался к Эйслебену. На горизонте показались окутанные серой дымкой терриконы, возвышавшиеся над бескрайними полями, с которых лишь недавно сошел снег. У окна вагона сидел человек с изможденным, бледным лицом. Он был небольшого роста и так худ, что совсем утопал в своем поношенном, непомерно широком пиджаке.
Он не обращал внимания на пассажиров и ни с кем не вступал в разговоры. Его грустные серые глаза ни на минуту не отрывались от однообразного пейзажа.
Мансфельд! Дорогая родина!
С этим же поездом в Эйслебен прибыло срочное письмо с грифом «совершенно секретно», адресованное гербштедтскому отделению гестапо.
«Цель освобождения арестованного, — стояло в письме, — установление его связей по месту жительства, а также местонахождения знамени. Надлежит обеспечить постоянный надзор…»
Словно во сне, человек вышел из вокзала в город. Здесь все было по-старому: ратуша, церковь, магазины, памятник Лютеру на Рыночной площади. Люди шли с покупками, останавливались на углах, разговаривали, смеялись, как будто ничего не произошло, как будто не было концлагерей, где пытали и травили собаками заключенных, унижали их человеческое достоинство.
Разве это можно забыть?
«Милый Эйслебен, чистенький, благополучный, суетливый городок! Если бы ты знал, как страдают твои лучшие сыновья!» — И, шагая по улицам, этот измученный, худой человек заглядывал людям в лицо и молча рассказывал им о героическом подвиге забойщика Курта Шрадера.
Ночь за ночью приходили они в камеру и уводили его. Они уводили его в подвал, где пол и стены почернели от крови, там они били его и орали: «Назови имена твоих товарищей!»
Но Шрадер, закусив губы, молчал. И так ночь за ночью. Он не мог больше ходить и не мог больше лежать.
И снова наступила ночь, и снова пришли палачи. Все ждали с замиранием сердца. Утро медленно прокралось в камеру. Но Курт Шрадер больше не вернулся. Он умер смертью героя.
Человек шел все дальше. На одной из улиц вдруг он услышал за спиной топот сапог и властную команду:
— Левой… левой… левой… левой…
Он не обратил бы внимания на эти звуки, давно уже ставшие привычными, но его поразила странная легкость шагов. Он обернулся. По мостовой маршировал отряд мальчиков в черных галстуках.
«Бедные дети! — подумал человек. — Они уже взялись и за вас!»
Он миновал Эйслебен и зашагал по пустынной проселочной дороге мимо терриконов, рудников и рабочих поселков. Входя в поселок, он вслух читал знакомые названия: Фолькштедт, Поллебен, Аугсдорф… Какое счастье снова вернуться домой!
А вот наконец и террикон рудника «Вицтум»: «Добрый день, старый друг!» Но рудник показался ему мрачным и чужим — наверху, над подъемником, развевалось фашистское знамя.
«Ничего, эту штуку мы скоро сбросим», — утешил он сам себя.
Чем ближе Брозовский подходил к Гербштедту, тем сильнее билось у него сердце. Как-то там его старуха? Здорова ли? А мальчики? И… цело ли еще знамя?
По Рыночной площади он уже почти бежал. Осталось всего три дома, всего два… Он распахнул дверь. Брозовская подняла голову, и слезы побежали у нее по щекам. Они обнялись.
— Ах, Отто! — всхлипывала Брозовская, гладя его бледное, исхудавшее лицо.
Они сели рядом на кушетку. Говорить они не могли.
— Бедный мой! — наконец сказала Брозовская. — Пойду зарежу курицу и сварю суп. Тебе нужно поскорее набраться сил.
— Пусть курица поживет еще полчаса, — рассмеялся Брозовский. — Скажи мне сначала, что со знаменем?
Брозовская лукаво улыбнулась:
— Посмотри-ка, на чем ты сидишь.
Он приподнял край покрывавшего кушетку ковра. Под ним лежало красное бархатное полотнище.
Глаза Отто Брозовского засияли.
В это время раздался стук в дверь.
— Прикрой! — испуганно прошептала Брозовская.
Вошел Шмидт. Брозовский, сидя на кушетке, неторопливо свертывал папиросу.
— Ну что, Брозовский, опять вернулись?
— Уже пять минут как дома. В чем дело?
— Распоряжение тайной государственной полиции. Вы должны ежедневно являться для отметки. В случае неявки пеняйте на себя.
— Каждый день отмечаться? Хорошо. А я-то думал, вы пришли поздороваться со мной, — сухо ответил Брозовский.
— Хайль Гитлер! — пробормотал Шмидт и поспешил удалиться.
— Они времени не теряют! — вздохнул Отто.
Матушка Брозовская занялась приготовлением обеда, а он, не спуская с нее глаз, все расспрашивал да расспрашивал. Он расспрашивал о товарищах, о судьбе знамени, о настроении горняков. И слова матушки Брозовской, прорвав наконец плотину молчания, струились тихо и живо, словно ручей, путь которого долгое время был прегражден и который наконец мог снова течь свободно.
— Да, тяжелая предстоит работа, — задумчиво сказал Брозовский.
— Боже мой! Неужели ты собираешься начать все сначала? Ведь, если тебя опять схватят, живым тебе не уйти.
Дверь отворилась, домой вернулся старший сын.
— Отец!
Отто крепко поцеловал сына, впервые за много лет.
Вечером семья Брозовских снова сидела за столом, как когда-то. Не было только Людвига; он еще не возвращался.
Отто Брозовский сидел как во сне. Вчера он еще был арестантом. Вчера еще он получал миску с вонючим супом, а сегодня он мирно сидит в собственной кухне, за собственным столом с близкими, дорогими ему людьми.
Матушка Брозовская выловила из ароматного золотистого бульона белую куриную ножку и положила ее мужу на тарелку.
— Это для отца, — сказала она. — Пусть наш старик поправляется.
Они ели молча. Когда они уже кончали ужинать, на крепкой белой куриной ножке еще оставалось немного мяса.
— Что с тобой? Почему так плохо ешь?
— Эх, мать, едок я теперь никудышный, — сказал Брозовский и грустно улыбнулся. — Они выбили мне зубы.
Заметив, как побледнела жена, Отто погладил ее по руке:
— Не огорчайся, дорогая. Я же опять дома. Это главное. — И, чтобы перевести разговор на другую тему, он весело спросил: — Скажи-ка, куда запропастился Людвиг?
Людвиг, словно только и ожидавший, чтобы его позвали, вошел в кухню.
— Отец? — сказал он смутившись и, не глядя ему в глаза, протянул руку.
— Что с тобой? Ты как будто не рад? — спросила Брозовская и с тревогой взглянула на сына.
Людвиг, стараясь скрыть замешательство, неловко опустился на стул и подпер голову руками. Но он тут же вскочил и ударил кулаком по столу так, что зазвенели тарелки.
— Уберите же его отсюда! — крикнул он.
В кухне стало тихо.
— В чем дело? — удивленно спросил Отто Брозовский. — О чем это ты?
Людвиг стоял перед ним опустив голову и молчал.
— Уберите его отсюда в конце концов! — повторил он раздраженно.
Брозовский вопросительно посмотрел на жену и старшего сына.
— Что мы должны убрать, Людвиг? — спросил он снова, и голос его дрогнул.
Людвиг молчал.
— Ну, говори!
Радостное настроение семьи как рукой сняло. Ложки без дела лежали в тарелках, где остывал золотистый бульон.
— Говори же, — тихонько подтолкнула Людвига мать. — Не заставляй отца волноваться в первый же вечер. Что убрать?
— Знамя, — твердо сказал Людвиг. — Что же еще?
Наступило мучительное молчание. Шрам на лице Брозовского, раньше почти не заметный, налился кровью.
— Так вот ты о чем: знамя, — повторил Брозовский охрипшим от волнения голосом.
— Да! — Людвиг резко поднял голову. — Больше я этого не вынесу. О нас все говорят.
— Послушай, Людвиг… — Сдержанно, с трудом заставляя себя говорить, Отто Брозовский начал свой рассказ: — У нас в Лихтенбурге был один комсомолец. Ему было шестнадцать лет. Веселый, живой парень. В этом аду он был единственной нашей радостью.
Месяцами бандиты-эсэсовцы пытались вырвать у нашего Герберта признание. Они били его плетьми — он молчал. Они запирали его в одиночку без окна, без нар — он молчал.
Однажды они вывели Герберта из темного карцера на лагерный плац. Стоял прекрасный летний день. Сияло солнце, на небе не было ни облачка. Герберт стоял во дворе, позабыв об эсэсовцах, позабыв о сторожевых вышках, о колючей проволоке. Он видел только солнце. Но эсэсовцы, о которых он совсем не думал в эту минуту, с насмешкой смотрели на юношу. Они-то знали, что его ждет.
Всего в нескольких шагах от Герберта стояли два ведра с песком.
По сигналу двое эсэсовцев взяли ведра и сунули ему в руки — одно в правую, другое в левую. Предварительно они сорвали с него куртку: «Бегом, марш!»
Наш Герберт побежал по плацу. Он сделал один круг, другой, третий… Ведра становились все тяжелее и тяжелее. Солнце пылало. Он бежал все медленнее. Тогда плеть, просвистев, опустилась на его голую спину: «Бегом, свинья». Он бежал. Еще один круг, другой, третий… Рубцы на теле горели. Песок в ведрах был как свинец. Когда Герберт останавливался, плеть снова свистела и подгоняла его. И так до тех пор, пока он без чувств не свалился посреди плаца…