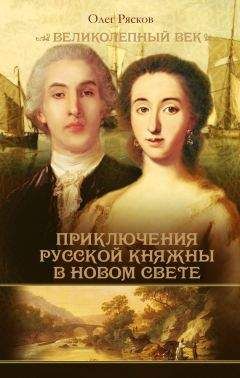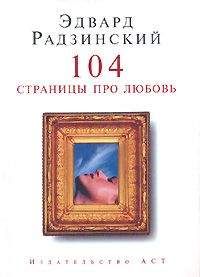Явдат Ильясов - Стрела и солнце
Прочитав эти строки, Гикия затихла. Стихи… Их непонятная власть над человеческим сердцем глубоко изумляла херсонеситку.
Стоит только пробежать несколько строф, и все разрозненные, непохожие одно на другое, противоречивые чувства сливаются в одно острое ощущение жизни. Каждый нерв как бы превращается в поющую струну. Меняется человек, меняется мир, очищенный от грязи гением поэта; он возрождается перед читателем обновленный, звучный, солнечный, как сама поэзия.
Сафо писала, что едва увидит юношу, полюбившегося ей, как она уже не в силах вымолвить слова — язык немеет, под Кожей быстро пробегает легкий жар, глаза ничего не видят, в ушах — непрерывный звон:
Эрос[14] вновь меня мучит истомчивый,
Горько-сладостный, необоримый змей…
На щеке херсониситки показалась слезинка.
Живой голос поэтессы, умершей почти шестьсот лет назад… В откровенных признаниях давным-давно угасшей женщины, сохранившихся в ровных строчках папируса, как бы ощущался еще трепет ее горячего тела. Удивительно! Гикия вздохнула. Пусть Сафо была беспутной, легкомысленной гетерой — кому от этого холодно или жарко теперь, через шесть веков? Зато она, как никто другой, любила красоту, солнце, розы. Она унесла все грехи с собой, в темную могилу, и оставила в дар человечеству жизнерадостную песню, согревающую сердце и сейчас.
«Поэт, — подумала Гикия, — должен быть таким вот человечным, или не быть поэтом».
Женщина подняла глаза на Ореста и задумчиво спросила:
— Нравится?
Боспорянин не ответил. Он спал. Боже! Потрясенная Гикия выронила свиток. Он упал на каменный пол и развернулся во всю длину. Оскорбленная, уничтоженная равнодушием тупого человека, Гикия ярко, словно цветок граната, покраснела от стыда и обиды. Взять бы футляр из-под свитка, ударить по пустой голове!
Но она сдержалась. Поднялась, отошла к окну, долго стояла там, крепко сцепив пальцы. Постепенно подавила в себе вихрь негодования. Разве можно сердиться на несчастного метиса? Орест, пожалуй, и сам не рад, что он такой. Должно быть, в юности с ним очень плохо обошлись.
По слухам, Орест принимал участие в заговоре против родного отца. Его заключили в темницу. Истязали, наверное; ведь там, в Боспоре, хватают и казнят даже ни в чем не повинных людей, убивают просто так, чтобы запугать народ. Бедняга!
К жалости, которую Гикия испытывала к странному боспорянину, примешалась заметная доля гордости: да, Орест не какой-нибудь жалкий рыботорговец, он — таинственный заговорщик, мятежный герой. Цареубийца. Брут. Теперь она еще сильней любила мужа.
— Орест!
— Н-что еще? — недовольно проворчал метис, просыпаясь.
— Пойдем со мной, Орест. Я покажу тебе Херсонес. Ты увидишь много вещей, достойных внимания. Пойдем, дорогой.
— Б-боже! — пробормотал он безнадежно. — Неужели мне придется еще т-таскаться по улицам проклятого Херсонеса
Гикия вспыхнула.
— Орест, не говори так! — воскликнула она с дрожью в голосе. — Разве ты не видишь, что ранишь меня? Херсонес — моя родина.
— Э! Родина… — Он криво улыбнулся, — Пойдем, раз ты так х-хочешь.
И как был — в домашней тунике и скифских штанах — направился к выходу.
— Постой! — Гикия поймала его за руку. — Ты намерен показаться народу в таком виде? Надо переодеться.
— Ох!
— Не волнуйся. Я помогу тебе, милый.
Орест, проклиная все на свете, напялил чистый хитон, обулся, накинул тонкий летний плащ. Гикия причесала ему волосы, заботливо расправила складки одежды.
— Какой ты у меня красивый, — прошептала она радостно.
— Мгм, — неопределенно ответил боспорянин.
Асандр опять вызвал к себе Дракоига.
— Ну, что в Херсонесе?
— Не спеши, — ворчливо ответил пират. — Кх, кх! Торопливость вредит делу. А у нас дело — сам знаешь какое… Надо действовать с осмотрительностью. Все продумать. Подождать. Имей терпение.
Сириск не узнавал сына. С того дня, как они ходили подвязывать виноградные кусты, Дион — прежде такой послушный, скромный, трудолюбивый — совершенно преобразился.
Он упорно отлынивал от работы в саду, не хотел чистить загон для скота, не желал рубить хворост, отказывался копать глину.
Вдобавок ко всему, он почти не притрагивался к еде и все сидел на берегу залива, согнувшись, обхватив руками голени и склонив кудлатую голову набок.
Сириск и его жена Эвридика извелись, глядя на сына. Человек жив, пока трудится. Старик не мог управиться один со всеми делами. Хозяйство рушилось.
— Что с тобой стряслось? — в сотый раз, надрываясь, спрашивал Сириск у сына.
Дион не отвечал.
Потеряв терпение, отец принимался его ругать. Юнец съеживался, крепче смыкал руки, сильней упирался подбородком в колени и продолжал упорно молчать. Его не сдвигала с места даже толстая палка, занесенная отцом над головой сына. Маши старик хоть топором, Дион не пошевелился бы.
Когда юнца оставляли в покое, он начинал тихонько визжать и скулить, как заблудившийся щепок. За несколько дней он высох, точно подрубленный куст.
— Порчу кто-то напустил, — решил Сириек. — Надо позвать знахаря.
Но тут Дион исчез.
Сириск и Эвридика, разорвав на себе хитоны, с громким плачем бросились искать парня. Диона не было нигде. Один из рыбаков, только что вернувшийся с моря, сообщил чуть живому от горя старику, что встретил Диона в заливе.
Он плыл в отцовской лодке на юг.
Сириск попросил у соседа челн и отправился в Херсонес.
Орест и Гикия вышли из дома во второй половине дня.
Их сопровождал здоровый, сильный раб — враги Ламаха, тайные недоброжелатели народной власти, могли из чувства мести покуситься на его детей.
Кто-то из херсонесских строителей, опытный мастер, измерил город и высек его изображение на мраморной плите. Оказалось, что Херсонес, воздвигнутый соответственно очертаниям полуостровка, его холмам и лощинам, очень похож в плане на скачущего во весь опор медведя. «Медведь» наискось, от головы к задней ноге и от крупа к передней, был покрыт сетью узких, ровных, как стрела, улиц.
Снабженные водостоками, они пересекались под прямым углом. Кварталы состояли из двух, реже — четырех одноэтажных и двухэтажных домов, обращенных лицевой стороной к улице и сложенных у горожан побогаче из диорита, у тех, кто победней, — из плотного и белого, мелкозернистого мшанкового известняка, а у некоторых — и просто из рыхлого, пористого ракушечника.
Тесный проход вел снаружи в открытый внутренний двор, позади которого возвышались хозяйственные строения: кухни, зернохранилища, дровяные склады, винные погреба. Каждый двор имел колодец или бассейн для сбора и хранения дождевой воды.
Хорошо было шагать вдоль тихих, уютных, чисто подметенных улиц, мощеных плитами серого известняка, мимо старых каменных стен, растрескавшихся, истертых, синеватых снизу и бледно-золотистых наверху, ближе к плоской крыше. Мимо обомшелых мраморных колонн, подпирающих буроватые от времени лепные карнизы, белых статуй, поставленных на каждом крупном перекрестке, и увитых плющом крытых галерей.
Тут и там, занесенные наискось одна над другой, увешанные густым ворохом листьев, ветви молодых, с округлой кроной, развесистых каштанов, словно руки в рукавах из ярко-зеленых лохмотьев, протягивали кверху розовато-белые пирамидки крупных соцветий.
Камень, как и вино, тем дороже, чем дольше выдержан. Много лет его должны накалять лучи знойного солнца, обмывать холодные дожди, сечь пронзительно свистящие ветры, чтоб он приобрел уловимый лишь для зоркого глаза благородный светло-коричневый загар.
Этот охристо-золотистый оттенок, кое-где разбавленный коричневатой на общем фоне города зеленью плюща и кипарисов, был присущ всему Херсонесу, удачно сочетаясь со смугловатой кожей его обитателей и ярко-красным, желтым и розовым цветом их туник и плащей.
Городок, расположенный на скалистом мысу между двумя тесными бухтами и занимавший скромную площадь, имел свой неповторимый облик и не уступал красотой и продуманной строгостью в разбивке улиц и площадей известным городам Эллады.
Прохожих было не очень много — херсонеситы весь день пропадали в гавани, на виноградниках, пастбищах, рыбной ловле или трудились в мастерских, большей частью выстроенных за дугообразной, вогнутой в сторону города южной стеной.
Каждый встречный не забывал поздравить молодых, пожелать им всяческих благ. Будь Орест более наблюдателен, он заметил бы, что Херсонес искренне любит Гикию, а Гикия — Херсонес. Чистые, широко раскрытые глаза молодой женщины сияли, точно прозрачные синие камни, пронизанные теплым светом солнечных лучей. Сверкали зубы. Она не переставала улыбаться и звонко, от всего сердца, отвечала на приветствия.