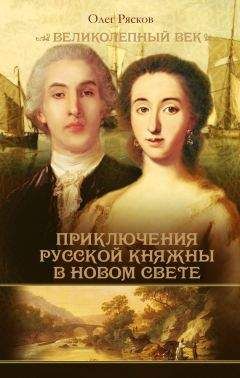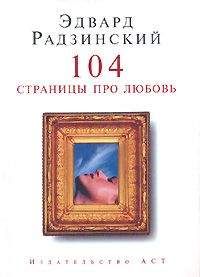Явдат Ильясов - Стрела и солнце
Он скоро встретит Гикию!
— Дион! — послышался ворчливый голос. — Куда ты пропал?
Юнец обернулся.
По тропинке спускался, постукивая палкой, Сириск.
— Разве я не говорил, — воскликнул старик досадливо, — что с утра пойдем подвязывать виноград?
— Я купался, — ответил Дион. Ему очень не хотелось отрываться от приятных раздумий о дочери Ламаха и тащиться за город, подвязывать проклятый виноград — все равно с него нет никакого толку. — Может, мне лучше съездить в Херсонес? — спросил он, хмурясь.
— Зачем? — удивился Сириск.
Дион отвел глаза:
— Зелень повез бы…
— Ты… спишь? — Сириск с недоумением посмотрел на сына. — Только позавчера вернулись оттуда. Везти-то нечего. Пусть подрастет еще.
Дион ничего не сказал и лениво поплелся за отцом на виноградник.
Сириск недавно открыл кусты, уложенные на землю и укрытые хворостом и прошлогодней листвой.
Хороший виноград родится на скелетных почвах, содержащих гравий, щебень, обломки известняка. Столовый — умеренно сладкий и достаточно кислый неплохо получается на земле, богатой гумусом. Ряды кустов при посадке ведут не от вершины к подножью, а поперек склона холма — этот способ предотвращает размыв почвы дождевой водой, образование оврагов и помогает задерживать влагу.
От бухты Символов до Прекрасной гавани, далеко за Керкинитиду, виноград можно не укрывать на зиму — урожай все равно будет хороший, потому что с юго-запада дует теплый ветер.
Но Сириску достался надел на теневой стороне бугра, и он, на всякий случай, предпочитал оберечь кусты от холодных северо-восточных ветров и мороза. Искривленные лозы надо было подвязать веревочками из мочалы к столбикам и перекладинам из корявых жердей.
Против обыкновения, Дион работал медленно, с неожиданной у него вялостью — кусты, подвязанные им, часто распадались, и Сириск, потеряв терпение, закричал:
— Что с тобой творится сегодня? Болен?
Дион покраснел:
— Нет.
— Утомился?
— Д-да, — ответил юнец, чтобы старик отстал. Не мог же он признаться отцу, что весь, как амфора, по самое горло налитая пивом, наполнен Гикией и сейчас ему не до работы.
— Это в твоем-то возрасте? — Старик укоризненно покачал головой. — Ну и молодежь нынче пошла! Не будешь шевелиться живей, провозимся целую декаду. Еще междурядья предстоит вскопать…
К вечеру, усталые и голодные — днем подкрепились всухомятку хлебом и сыром, запив их водой из ручья, — отец и сын, закончив половину дела, собрались домой.
Старик велел Диону нарвать молодых виноградных листьев, разросшихся на юных лозах, случайно не укрытых на зиму.
— Мать стушит в них рубленое мясо с луком и перцем, поедим на славу, — пояснил Сириек, глотая слюну.
Дион наложил в полу застиранного хитона охапку бархатно-мягкой, просвечивающей желтоватой зеленью зубчатой листвы.
Тронулись в путь. Стало прохладно. Дувший с моря легкий ветер раскачивал тонкие ветви придорожного шиповника, На извилистую известковую тропу, петлявшую вдоль обрыва, один за другим выходили из своих виноградников утомленные работой мужчины.
— Ты слышал новость? — сказал Сириску сосед. — Говорят, Ламах выдает дочь за боспорского царевича.
Дион споткнулся.
Край полы выскользнул из его сразу ослабевших пальцев.
Листья вывалились и, подхваченные внезапно усилившимся ветром, закружились над тропой.
Посольство боспорян отбыло домой.
Через несколько дней Асандр и Ламах встретились в Феодосийском заливе, почти на середине пути между столицами двух государств.
Тяжелая боспорская триера с медным носом, мачтами и снастью, увешанными гирляндами красочных венков и ярких лент, с торжественной медлительностью подошла к узкому быстроходному кораблю херсонеситов и бросила якорь с ним бок о бок.
С обеих сторон раздавались шумные приветствия, доносились веселые звуки тимпанов и флейт.
А давно ли при встрече боспорских и херсонесских судов вместо поздравительных криков слышались проклятья, вместо зубов, обнаженных в радостной улыбке, сверкали острия пик, вместо свежих цветов над бортами военных галер мелькали крылатые стрелы? Мир! Кто не вздохнул с облегчением в этот солнечный день?
С херсонесского корабля на боспорский перекинули мостик.
Все действия сегодня были исполнены значительного смысла: Боспор с любовью приблизился к Херсонесу, Херсонес дружески раскрыл навстречу дверь.
Асандр, опираясь на палку, ступил на мостик. Суда слегка покачивало, доски под ногами тяжелого боспорянина скрипели и прогибались.
«Если он идет ко мне с нечистой целью, — загадал архонт Ламах, ожидавший Асандра на другом конце мостика, — доски не выдержат и рухнут…»
Но все обошлось благополучно — царь с помощью эвпатридов успешно перебрался на херсонесскую галеру.
«Как здоров, плотен, могуч этот бык, — с досадой и завистью подумал Асандр. — Топором не свалить. Но я все-таки опрокину тебя, демократ! Не топором — я сковырну тебя отравленной иглой, и уж потом добью секирой».
«Напрасно я боялся тебя, монарх, — мысленно сказал архонт. — Ты еле дышишь, я вижу. Развалина. Нет, не тебе осилить меня…»
Он сердечно пожал протянутую боспорцем руку.
Орест бледный, насмешливо-холодный — сидел у окна и неотрывно глядел на небо, хотя там не виднелось и облачка; разве что коршун пролетит высоко над башней.
Десять ночей и дней длился свадебный пир — сначала и столице Боспора, затем в Херсонесе.
За это время было спето много эпиталам — хоровых свадебных песен; съедено много хлеба, мяса, рыбы, овощей, сыра, сладких плодов — причем, больше всех ели Асандр и Ламах; выпито много вина, ячменного пива, браги, меда — причем, больше всех пил Орест; произнесено много пылких речей, поздравлений, напутственных слов и наставлений — причем, больше всех говорил Поликрат; и вот, наконец, молодые остались наедине в комнатах, отведенных им в доме архонта.
Увидев Гикию наутро после встречи у бассейна и убедившись, что она та самая «служанка», с которой он разговаривал ночью, Орест небрежно кивнул ей:
— А-а… это ты?
И все.
Что еще он мог ей сказать?
Говорить о любви? Чепуха. Правда, Гикия понравилась ему. Ну и что же? Разве кто-нибудь спросил, хочет он или нет быть с нею вместе? Ореста женили насильно, ради каких-то там государственных выгод — ну и пусть получают себе эти выгоды, а его оставят в покое.
Горькая мысль о том, что ему с угрозой, не спросясь, навязали незнакомую женщину — пусть красивую, умную, добрую, — заранее убила в Оресте всякую привязанность к этой женщине, которую при других обстоятельствах он, может быть, и полюбил бы всей душой.
Он — лишь орудие примирения двух издавна враждовавших стран. Не так ли? Что ж, ладно. Не слишком завидная участь, если разобраться. Но… не все ли равно? Орудие, так орудие. Хорошо уже, что он, сам ни в ком не нуждаясь, кому-то для чего-то годится. Значит, вина будет вдосталь. На остальное — наплевать.
Гикия долго смотрела на Ореста сбоку, из угла.
Он редко прикасался к ней. Молча пил на пирах, молча поднимался из-за стола и так же молча заваливался спать.
И вот пиры закончились, они теперь вдвоем, одни в своих комнатах.
Пряча стыдливо-откровенные глаза, Гикия закусила вздрагивающую губу и стиснула кулачок. Щеки женщины пылали от внутреннего жара. Она прерывисто вздохнула, несмело подошла к Оресту, робко обняла его за шею:
— Супруг мой… брат… никому не отдам, люблю тебя больше жизни!
— Больше жизни? — Орест расхохотался. — Любит? Хо! Сказала бы просто — давно соскучилась по мужчине. Ну, может быть, он и приглянулся ей. Немного. Но любовь… Ойнанфа тоже клялась…
Гикия отшатнулась, будто он замахнулся, чтоб ударить. Сердце чуть не разорвалось от унижения. Уйти, не видеть! Она резко отвернулась.
Сын Раматавы улыбнулся:
— Быстро ж прошла твоя любовь… Ха-ха! Ну, ладно. Что пользы сердиться? От этого ничего на свете не переменится. Принеси лучше вина.
Метис опорожнил подряд три-четыре большие чаши. Красная струйка побежала по его подбородку, стекла по шее на грудь. Орест уронил голову и закрыл глаза. Гикия кое-как дотащила бражника до ложа. Он крепко уснул.
Боспорянин лежал навзничь, беспомощно свесив руку, откинув голову вбок, точно убитый на бегу солдат.
Уголки его полудетских губ страдальчески опустились. Ветерок, залетавший в комнату через окна, слабо шевелил прядь волос, отливающих черным лаком.
По странной случайности, цветом волос, глаз и чертами лица Орест очень походил на Гикию. Их можно было принять за брата и сестру,
Гикия придвинула кресло, уселась, задумчиво уставилась на Ореста. Обида улетучилась. Лежавший перед нею человек был глубоко несчастен. Именно из-за этого она привязалась к нему так сильно. В ней еще смутно бродила кровь, но зов природы уже приглушило чувство материнской нежности.