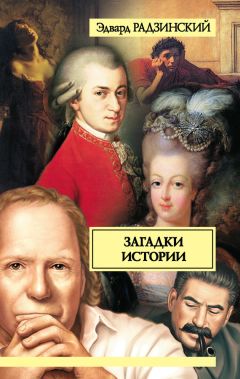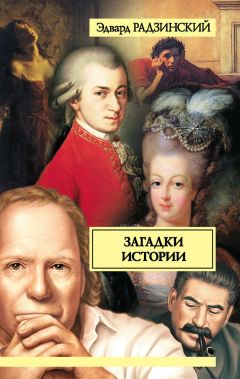Эдвард Радзинский - Последняя из дома Романовых
– Она давала вам какие-то надежды?
– Никаких. Просто без всяких надежд мечтал я о ней. Ложных иллюзий по поводу ее происхождения у меня не было. И часто вслух я сомневался в ее происхождении.
Он замолчал.
– Но каждый раз она вас уверяла?.
– Да! – вздохнул Доманский.
– Как она себя называла? Повторите. И не торопитесь.
– Она называла себя Елизаветой, дочерью покойной императрицы, – опять вздохнул поляк и забормотал какой-то насмешливой скороговоркой: – Знаю свою вину. Но именем всех святых хочу объяснить государыне только любовь привела меня к ней. Я ее люблю и оттого не чувствую вины, ибо если за любовь наказывать людей, кто остался бы без наказания?! В своей жизни я никого не загубил и оттого припадаю к стопам всемилостивейшей государыни, молю о милосердии и снисхождении. Клянусь, что никогда не верил в россказни и верить не буду, и буду стыдиться своей глупости, и беру обязанность на себя вечно молить Бога за здравие и долголетие царствования государыни!
«Ох, продувные бестии! Так я и поверил этим заклятым врагам государыни, когда они здравицу в ее честь поют! Так я и поверил сему человеку, который изо всех сил выгораживал себя и Радзивилла и топил ту, которую он-де так любит... Ох, мне бы вас допросить с пристрастием... Ребрышки вам пощупать... Чую, тут ключ... ан нельзя. Вот такая наша жизнь: „Узнай правду, не узнавая ее“. Ох-хо-хо-хо».
В камере перед Голицыным стоял слуга принцессы Ян Рихтер.
«И опять выслушивал я всяческие глупости. Этот пересказывал свою биографию...»
– Кем я только не был, Ваше сиятельство. Сначала был хирургом. По том сделался венецианским солдатом, потом был скульптором. Потом играл
на виолончели. Потом – на мандолине. А потом решил: всюду жизнь плоха, всюду надо заботиться, добывать деньги на пропитание. И понял: лучше всего быть слугою. Пусть хозяин о тебе заботится!
– Можете ли вы сообщить что-нибудь о происхождении вашей хозяйки?
– Да откуда, Ваше сиятельство? Я служил, дом охранял. Докторов к ней звал. Хворала часто. А как время свободное – играл на мандолине. Или бумажки складывал.
– Какие бумажки?
– А я разве знаю? Она мне говорит: «Сложи бумажку в баул да запри».
– Эти бумажки? – И Голицын показал Рихтеру письма принцессы, вынутые из баула.
– Может, и эти... А может, и не эти.» Мое дело какое: что скажет барыня, то и складывал. Я ее вещи и бумажки никому не отдавал без ее приказания. Вот за то и попал сюда.
– Как вы называете вашу барыню?
– Как все Ваше императорское высочество.
– Вспомните: говорил ли в вашем присутствии кто-нибудь или она сама, откуда она родом? О ее родителях?
– Да зачем? Мне только одно говорили: принеси, убери, сходи. А в свободное время я на мандолине играл»
В камере перед Голицыным стояла Франциска фон Мештеде.
– Да ничего такого я о ней не знаю. Одно знаю: щедрая госпожа.
– Говорила ли она в вашем присутствии, кто она? Называла ли она себя дочерью императрицы или еще как?
– Все вокруг так говорили... А она? Не помню... Я как-то не задумывалась. Все говорили. Нет, не помню™
– Говорила ли она с вами о своих родителях, о своем происхождении?
– Да она вообще со мной мало говорила. Я ее одевала и раздевала – вот и весь разговор. Она даже когда в коляску меня с собой сажала, не объясняла, куда едет. И никто у нас в доме не знал заранее, что она делать будет. И даже на исповедь она никогда не ходила.
Князь взглянул на часы и сказал Ушакову:
– Ну что ж, теперь пошли. И помни: молчать обязан до смерти обо всем, что сейчас увидишь и услышишь.
– Так точно, Ваше сиятельство.
– Ох-хо-хо-хо, – вздохнул князь и, подняв грузное свое тело, направился в камеру к «известной женщине».
В камере принцессы.
Ушаков уселся за конторку и приготовился писать. Голицын тяжело сел на стул и внимательно поглядел на принцессу.
«Темные волосы, нос с горбинкой. Итальянка? Но по-итальянски, граф докладывал, знает плохо. Кто же она? Но хороша.» Только исхудала очень».
– Кто дал право так жестоко обращаться со мной, и по какой причине вы держите меня в заключении?
«Ишь глазищи-то горят...»
– Обстоятельства жизни вашей, сударыня, нам хорошо известны по полученным вашим документам, и в том числе тем, которые вы у себя хранить изволили. Следственно, всякое запирательство с вашей стороны приведет лишь к тому, что будут употреблены – поверьте, мне горько об этом говорить, – даже крайние меры для выяснения самых сокровенных ваших тайн. А посему предлагаю вам оставить пустой гнев и отвечать со всей откровенностью на мои вопросы, полагаясь на безграничную милость Ее императорского величества. Вопросы будут предложены мною на французском языке, но если какой другой язык вам угоден...
Голицын остановился и вопросительно посмотрел на принцессу. Она молчала.
– Итак, вопросы будут предложены на французском. Вы называли себя всевозможными именами в разных странах Европы. Как вас зовут поистине?
– Меня зовут Елизавета. А путешествовать под разными именами, как известно Вашему сиятельству, в обычае людей знатных.
– Кто ваши родители, Елизавета?
– Не ведаю.
– Сколько вам лет, Елизавета?
– Двадцать три года.
– Какой вы веры?
– Православной, – усмехнувшись, ответила Елизавета.
– Тогда кто вас крестил? И где вы провели свое детство.
– Кто крестил, не помню. Детство провела в Киле, у госпожи Перон... или Перен, сейчас не помню. Сия госпожа постоянно утешала меня скорым приездом моих родителей. Но в начале 1762 года приехали в Киль трое не знакомцев и увезли меня в Петербург.
«Ох шельма: 1762 год– это же сразу после кончины императрицы Елизаветы! На что намекает, разбойница! Ох, записывать не хочется – будет гневаться государыня».
– А потом, – продолжила Елизавета, – обещали меня привезти в Москву, но по велению царствовавшего тогда Петра Третьего увезли далеко в Сибирь – к персидской границе...
«Далее я все знал из бумаг, далее шли ее обычные выдумки: как бежала с нянькой в Багдад, как принял их персиянин Гамид и передал другому персиянину Али...»
– ...И вот тогда Али в первый раз сказал: «Ты дочь русской императрицы». То же повторяли все окружавшие меня.
– Можете ли вы назвать по именам людей, внушивших вам такую несуразную мысль?
– Кроме князя Али, никого не помню. Но в это время произошли большие волнения в Персии...
Она с упоением рассказывает. Лицо ее вдохновенно: она будто живет этими миражами, будто забыла, где находится...
«Далее повторяла все сказки, что в ее бумагах были. Про то, как Али в Лондон ее отвез. И как вернулась в Персию...»
– Из Лондона я отправилась в Париж. И всюду как приемная дочь князя Али я называла себя принцессой Али... Хотя в Париже множество французских дворян сказывали мне, что на самом деле я великая княжна и дочь императрицы Елизаветы.
– Кто сказывал? Можете назвать по именам?
– Легче перечислить, кто не сказывал. Запишите имена всех французских дворян – от министра герцога Шуазеля до принца Лозена. Но я упорно отрицала это и называла себя принцессою Али.
– Вы отрицали?
– Именно. В этот момент я получила большие деньги из Персии и купила в Европе земельную собственность – графство Оберштейн. При покупке графства я познакомилась с его прежним совладельцем Филиппом Фердинандом, князем Римской империи, герцогом Шлезвиг-Гольштейн– Лимбургом.
«Ишь как величественно. Грозит, грозит именем, шельма...»
– Князь вскоре влюбился в меня. И я не отвергла его любви. И князь официально попросил моей руки. Я дала согласие, ибо он мне был любезен. Но для заключения брака мне нужны были документы...
Она закашлялась, потом поднесла платок к губам, вытерла рот. И когда положила платок на колени, Голицын увидел...
«Бог мой... Кровь... Точно, кровь!»
– Не торопитесь, сударыня, – мягко сказал Голицын, – времени у нас предостаточно.
– Это у вас предостаточно. У меня – нет, – сказала она, усмехнувшись, спрятала платок и продолжила рассказ.
– С помощью документов я хотела разъяснить самой себе тайну мое го рождения. Я даже решила сама поехать в Петербург и там представиться императрице. И снискать ее милостивое расположение, предоставив ей важные предположения о выгоде торговли России с Персией. Я надеялась,
что за эту услугу государыня поможет мне разыскать мои документы, и я получу принадлежащие мне фамилию и титул, достойные для вступления в брак с владетельным князем Римской империи.
«Опять за свое. Ох, будет в гневе матушка... Ох, и будет!»
– Я хотел бы узнать... – начал Голицын.
Но она, нежно взглянув на князя, ласково сказала:
– Умоляю вас, не прерывайте меня. Вы видите бедственное мое положение, как нелегко мне говорить. Кашель душит меня...» Так что позвольте мне продолжить, коли хотите узнать истину...
И, не дожидаясь ответа князя, Елизавета продолжила:
– Но в этот момент мой жених нуждался в деньгах. Я надеялась достать ему нужную сумму, ибо он вел процесс с могущественными державами по поводу принадлежащего ему княжества Шлезвиг-Гольштейн.