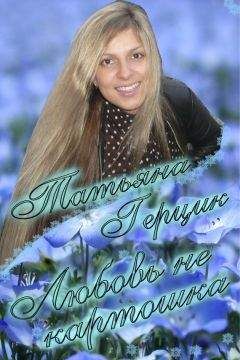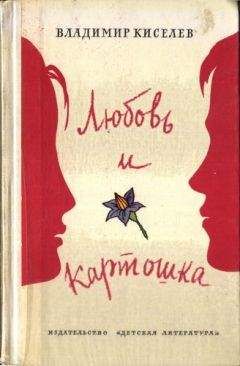Илья Сельвинский - О, юность моя!
— Но ведь Муромец во многих былинах действительно был предан князю, как самый ревностный телохранитель.
— Был! В том-то и дело, что был, А когда? До семнадцатого века. Но как только появился Стенька Разин, произошло коренное изменение: Илья принял облик бунтаря и из мифического образа превратился в образ исторический.
Обогнув мажары, на дорогу выкатился автомобиль марки «фиат», весь в штыках и с пулеметом на заднем сиденье. Охраны было много, и вся она стояла, опираясь на винтовки. Леська вскочил и поднял руку. Машина подошла вплотную. Остановилась.
— Вы куда, Алексей Иваныч? В Симферополь?
— Ага. Золото твое везу. А ты что тут делаешь?
— Довезите человека до города.
— Оружие есть? — строго спросил Агренева Махоткин.
— Нет, нет! Что вы!
— Ну, тогда садитесь. А ты, гимназист, вот что: пойдешь на тачанке в разведку. Скажи комиссару: я приказал.
Автомобиль подхватил гусляра и умчался. Леська глядел ему вслед и видел человека, который несся в глухое одиночество, хотя было ясно, что он прав и настанет день, когда люди это поймут. Но сейчас России некогда думать даже об Илье Муромце. И эта маленькая несправедливость эпохи, тонущая в огромной справедливости революции, охватившей судьбы миллионов, ни в ком не вызовет горечи. Бедный, бедный Вадим Васильич...
Леська вздохнул и, подождав новую мажару, устроился рядом с кучером. Смотреть на женщин Леська опасался: он уже понял всю слабость своей натуры.
Когда добрались наконец до траншей, Леська увидел Гринбаха, молодцевато сидевшего на красном коне. Конь, жеманно переступая передними ножками, стоял перед группой анархистов.
— Старообрядцы — народ занятный! — посмеиваясь, говорил Гринбах. — Есть такой анекдот. Однажды во время русско-германской войны командование российской армии мобилизовало даже старообрядцев. Вот один из них попал на передовую. Немцы перед атакой, сами понимаете, начали артподготовку. Летит «чемодан» — бах! Крики, стоны, кровь... Старообрядец удивленно выскакивает на бруствер. Увидел цепь наступающих немцев и кричит им: «Вы с ума сошли? Тут же люди сидят!»
Все расхохотались.
— А чему вы, собственно, смеетесь? — спросил Леська. — Этот старообрядец был совершенно прав. А мы, морально изуродованные чудовища, привыкшие к человеческой бойне, видим в его правоте одно смешное.
— Ты опять за свое? Христосик! — повернулся к Леське Гринбах. — Чего тебе надо на фронте?
— Не твое дело! — грубо ответил Леська.
— А вы напрасно, комиссар, с ним эдак разговариваете, — сказал Устин Яковлевич. — У товарища душа есть. Нынче это ценить надо.
— Ух ты, какой разговор — прямо з-зубы болят!
— И Виктор здесь?
— И Виктор. А куда же ему деться? — сказал Груббе, подавая Леське руку. Ты вот, комиссар, его ругаешь, а он за тебя какой помер выкинул. Помнишь? Вся Таврия про это гудела!
Леська опустил веки.
— Если бы речь шла обо мне, — сказал Гринбах, страшно побледнев, — я бы ничего, кроме благодарности... Но вопрос о революции. И мы тут не ученики евпаторийской гимназии, а идеи. Тебе, Виктор, этого не попять, а Бредихин, конечно, понимает. Понимаешь, Бредихин?
— Того, что человек превращается в идею, я не понимаю и понимать не хочу. Но я понял то, что ты сам о себе думаешь, — и это меня с тобой примиряет.
— Да. Думаю, что я идея. Не хочу в себе ничего человеческого. С корнем вырываю! Ненавижу это в себе! Благодарность, снисходительность, милосердие — все это не для пролетариата. Потом, потом! Когда-нибудь!
Он хлестнул коня и ускакал, тряся локтями.
— А ездить, между прочим, не умеет, — заметил кто-то.
— Научится. Разве тут его сила? — задумчиво произнес Устин Яковлевич. — Человек он зарный, себя не жалеет, все только об революции мечтает. Что на него серчать? Дай боже всем нам вот эдак. Мы их, явреев, били, погромы устраивали, а они вон каковы оказались на поверку.
— Мы евреев не били, — сказал Виктор. — Било хулиганье, закупленное полицией. А меня, брат, не купишь. И тебя тоже.
13
Юности свойственна романтика. Романтику не затравишь. Не выкорчуешь ее. Если преградить ей рост в высоту, она станет извиваться в узлы и петли. И вот, лишенные науки и искусства, отрезанные от военной, морской, железнодорожной и других профессий, еврейские юноши, не желавшие корпеть над заплатами и нюхать аптекарские капли, увидели романтику в уголовщине. Так родились знаменитые одесские налетчики — Мотька Малхамовес, Беня Крик, Филька-анархист, — великолепное уродство царской национальной политики. Они создали свой мир, со своей этикой, со своими железными обычаями, со своей «блатной музыкой».
Октябрь сдул с России все рогатки, барьеры, проволочные заграждения. Россия ста народов хлынула в революцию.
Откуда у Симы матросская бескозырка с громогласным названием черноморского дредноута «Воля» — дело его. Но это влекущее слово как бы нашло в молодом комиссаре свое воплощение. Этот парень не только делил с бойцом последнюю пулю, но мог толково объяснить простому человеку его естественное право на счастье.
* * *— Ну вот, ушел, — разочарованно протянул Леська.— А мне приказано идти в разведку. Кто же меня теперь поведет?
— Со мной пойдешь, — сказал Груббе. — А эти ребята, антихристы, или как их там, поедут у меня в тылу. Я ваше начальство.
— Слушай, Груббе, — сказал «антихрист». — Пошто ты здесь? Твоя статья быть в Евпатории. Ты ведь там продкомиссар.
— Пеламида! Как я могу усидеть, когда тут такое делается?
— Стало быть, ты тут временно?
— Ага. На гастроль прибыл. Вот и Сенька Немич тоже. — И вдруг обратился к Леське: — Ну, давай садись. Вон моя карусель стоит.
Леська увидел знакомых вороных. На облучке сидел
Петриченко и сворачивал цигарку из розовой промокательной бумаги без табаку.
— Ты что мастеришь, чудила? — окликнул его Виктор.
— А это, браток, великая вещь — промокашка. Ничего в ней нет, а курится.
— Сам ты курица, — сказал Виктор и вынул кисет.— На! Кури! Не позорь Евпаторию.
Тачанка была с пулеметом.
— Умеешь стрелять, гимназер? — спросил Петриченко.
— Нет еще,
— Тут самое важное не сробеть, когда на тебя несутся конники. А в общем, вот гашетка. Нажмешь ее — и поливай влево и вправо.
Петриченко, свертывая цигарку и не беря вожжей, чмокнул на вороных и спокойно сказал: «Вперед». Лошади дернули и сразу пошли рысью. Когда проезжали перешейком, Леська с интересом наблюдал справа красноватые заливы Сиваша, слева — синюю рябь Черного моря. Густую синеву Черного он знал хорошо, а вот бледную воду Азовского видел впервые.
— Почему красная? — спросил он Виктора.
— А кто ее знает? Красная — ну и красная.
— От водорослей это, сказал Петриченко. — «Солонцы» называются. От них и червячки, что здесь живут, тоже наливаются краской.
За спиной раздалось чмяканье копыт: это шла тачанка анархистов — буланый и чалый.
Показались соляные промыслы. В высоких резиновых сапогах шлепали по воде рабочие.
— Э! Пролетариат! — закричал Устин Яковлевич, — Пошто это вы сегодня не на работе? Немец придет — вас заберет. В Красную гвардию пора, класс вы эдакий рабочий!
— Успеется! — крикнул кто-то вдогонку. — Без нас не обойдется.
У выхода из Крыма блистал на рельсах бронепоезд. Он состоял из трех частей: одетый в броневые заплаты локомотив, за ним платформа со стальным кубом, из которого высовывалось дуло шестидюймового орудия, и, наконец, другая платформа, тоже забранная сталью, но со спущенными до поры до времени бортами. На ней при четырех «максимах» сидели и стояли черные силуэты моряков, похожие на орлиную стаю. С точки зрения архитектуры бронепоезд не представлял собой произведения искусства. Откровенно говоря, ничего более аляповатого война не создавала. Но в эпоху гражданской войны это уродище было самым грозным оружием.
— Привет сухопутным крысам! — крикнул Груббе и высоко поднял бескозырку.
Только теперь Леська прочитал на ней название: «Судак».
— Почему ты «Судак»?
— А почему Самсошка — «Воля»?
— Ну, воля все-таки что-то такое значит — большое, всеобщее.
— Да, да. А зато судак вкуснее.
От бронепоезда отделился Гринбах и поскакал к ним на красном коне, отчаянно махая локтями.
— Наша задача, сказал он, подъезжая, — обследовать степь до станции Ново-Алексеевка. За мной!
Вскоре из-за горизонта всплыли очертания водокачки, вокзала, а затем и самого села. Комиссар придержал красного. Подошли тачанки.
— Как думаете, немец там?
— А кто его знает? Подъедем — узнаем.
— Нет. Так нельзя-а, — рассудительно протянул Устин Яковлевич. — К медведю в берлогу головой не лезут. Следов надобно искать! На всякий случай поедем шагом.