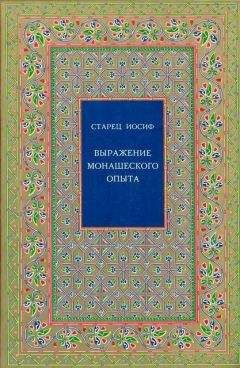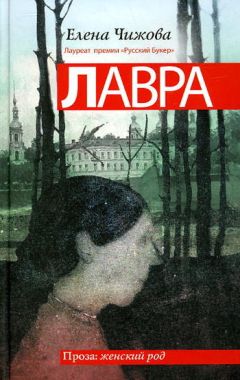Игорь Лощилов - Несокрушимые
Поляков и воровского войска насчитывалось здесь тысяч шестьдесят, а приблудного московского люда никто не считал. Со всего света стекались сюда искатели приключений и наживы, торговцы, распутницы, бродяги, тати, разбойники, нищие — словом, населения в воровской столице было теперь не меньше, чем в самой Москве. Такую ораву следовало кормить и поить. По всем окрестностям были разосланы продовольственные отряды, и с первым снегом в Тушино потянулись бесчисленные обозы с хлебом, мукой, маслом, мёдом, птицей, рыбой, солью, фуражом. Гнали огромное множество крупного и мелкого скота. Все близлежащие деревни получили строгий приказ курить вино и варить пиво — этого добра в стане было море разливанное. Прежние землянки превратились в винные погреба.
Паны жили здесь в своё удовольствие. Завели целые псарни и гонялись с охотой по окрестным лесам, благо те изобиловали дичью. Ночами хватало других утех, в их распоряжении находились шлюхи разных племён и народов, разве только эскимоски пока не добрели. Простолюдины резвились по-своему: играли в карты и зернь, развлекались петушиными боями, бились об заклад, ссорились, затевали потасовки, дрались до смерти. Неудачников раздевали и оставляли тут же, в снегу, зачастую даже не прикрывши срама.
Каждая новая власть — это прежде всего разруха и неустроенный быт. Старое, хоть и добротное, сокрушается, новое строится наспех. Каждый хочет запрыгнуть повыше, нижние шестки остаются пустыми. Никто уже не метёт, не чистит, не скребёт, не убирает, не то что за другими, за собой. Вокруг высились горы из мусора, нечистот, останков забитого скота, гниющих потрохов, в которых копошились псы и воронье. Огибая построенное без всякого лада жильё, приходилось то и дело утыкаться в непроходимые свалки.
— Это ещё что, — объяснял Антип своему ошеломлённому спутнику, — у воровского сброда и того хуже. Там льют и кладут, как кому приспичит, и также жёнок имут при всеобщем глядении.
— А те что?
— Ничего, гогочут и сиськами трепещут...
Ничего не сказал Ананий, только шаги ускорил. Антип и без того его понял: поспешим-ка твою Дуняшу выручать.
Как и уверял Антип, казацкий стан выглядел ещё гаже. Изб здесь не ставили, довольствовались большими амбарами, которые по привычке звали куренями. Они и правда непрерывно курились от пылающих внутри костров. Всё вокруг было закопчено, и выпадавший ночью снег уже к утру становился таким чёрным, что не смывал сажу с лица, а только размазывал её. К слову сказать, станичники и не стремились мыться, существовало поверье, что хорошо прокопчённого не берут мушкетные пули, и оно пока оправдывалось, так как российские обыватели, с которыми большей частью сталкивались казаки, из мушкетов не стреляли. От небрежения с огнём случались нередкие пожары. Бедой их не считали — так, просто большой костёр, иногда очень большой.
Курень атамана Пасюка стоял посреди казацкого стана в окружении обозных возов и загонов для скота. Атаман и его люди считались едва ли не самыми буйными, им старались не перечить, пусть селятся и делают, что хотят. Даже главный атаман Заруцкий предпочитал не связываться. Большую часть отряда составляли выходцы из юго-западных окраин — Северского и Стародубского княжеств. Народ там жил особенный. Вынужденный лавировать между постоянно враждующими державами — Россией, Литвой и Крымом — он не отличался крепкими устоями и, не задумываясь о правоте, с готовностью служил тому, кто в данное время казался более сильным. Это как дрожжи: можно класть в квашню для доброго хлеба или в бадью для дурного зелья. Немудрено, что именно оттуда поднялись ядовитые пары российской смуты. Нынешний Самозванец впервые объявился в тамошнем городке Пропойске, места с более приличным названием для него не нашлось. Те, кто полтора года назад выкрикнули его, не прочь были в случае чего опять воспользоваться своим опытом производства в цари. Никакого уважения к этому званию у них не было, случалось даже, что и своего Пасюка они величали батькой-царём, а возвышающийся среди гниющих отбросов и навоза курень называли дворцом.
Ананий шёл по воровскому стану с опаской: ну, как возьмут да учнут расспрос, он по непривычке к лукавству вряд ли сумеет отговориться. Антип успокаивал:
— Распрямись и головы не утягивай. Видел что-нибудь хуже? Вот и я говорю, не жизнь, а настоящий бардадым. Здешние гультяи ни на кого не смотрят, только в кружку да на подружку.
Он, похоже, говорил правду, встречные люди двигались неверными шагами, опустив глаза долу, поминутно оступаясь и падая в снег. Лишь однажды удостоились они предупредительного окрика.
— Уйди, не то окачу! — встал у них на пути гультяй и, дико захохотав, свалился на свою же струю.
Ананий брезгливо переступил через шутника.
— Как же нам твою Дуняшку сыскать?
— Есть одна задумка, — сказал Антип, — слушай...
Зимой смеркается быстро, с небесной выси стремительно несётся тёмный полог и, раскрываясь у самой земли, тотчас её объемлет. Стояло полнолуние, полог был весь расшит чистыми звёздами. Дворец царя Пасюка звенел песнями, гремел пьяными голосами. Как обычно похвалялись собственными делами и, не желая знать ничего иного, старались перекричать друг друга. Внезапно рядом прогремел выстрел.
— Тихо, казаки! Царь-атаман гуторить желает.
Его величество стал тяжело подниматься. Это был рыхлый, явно нездоровый человек с корявым ноздреватым лицом, на котором не иначе как черти толкли горох. Дышал он тяжело, со свистом, впрочем в такой развалине дуло из-за всех щелей, и сейчас он сопроводил свой подъём явно посторонним звуком. Сидевшие рядом заулыбались:
— Так, геть его, батько, не ломать же брюхо из-за худого духа.
— Цыц, бисовы диты, ни якой уваги нэма. Бильший атаман прислал цедулю, — просипел Пасюк и уставился в свиток.
О том, каков он грамотей, знали хорошо, потому пришли на помощь:
— Та не читай, сам кажи...
— Так вот, приказано отныне с кажного нашего привоза ал и приноса половину отдавать в общий кошт.
Казаки возмущённо загалдели.
— Тихо, слухайте до конца. С того общего кошта половина пойдёт на царские нужи, а друга половина на казачьи требы: на пушки, припасы к им, на кузни, ковалей, седельщиков и всё иное, что в атаманову башку вкатит...
Продолжать ему не дали, всё утонуло в общем разъярённом крике.
— Хиба ж у нас своих ковалей нэма, шо у чужих дядькив ковать коней будэмо?
— А царю пошто стилько отваливать? Прежние и то брали меньше.
— Спокон веку не водилось, чтоб половину намолота отбирать...
Пасюк подождал, когда его воинство войдёт в полный раж, и снова разрядил пистоль.
— Тихо! Зараз поспрошаю, нужен ли тогда нам этот царь и весь евонный прихлёб? Не лучше ли свой ряд поставить, чтобы жить самим по себе и намолот в чужие руки не отдавать?
Снова общий рёв:
— Та на кой он ляд? Хай сказится, одни управимось...
Звучали и осторожные голоса: не просто-де самим жить, грамотеев у нас мало, а нужно и счёт знать, и языки, чтоб с чужими державами сношаться. Таких глушили скопом: выучимся, не дурней прочих, а надо, на стороне сыщем. «Зачем на стороне? — спорили другие. — Наш Грицько и гроши считает, и балакать на разной мове могет. Ну-ка, покажь!»
Грицько казак не из видных, нос провалившийся и голосок писклявый, труслив в поле, но удал в застолье. Вскочил на чурбан и стал выкрикивать слова, которых поднабрался, шатаясь среди чужеземных собратий по разбойному ремеслу:
— Виштенес! Магнифико! Кишбер! Пшемоцно! — и, наконец, припечатал: — Бармасалай!
— Ого-го! — радостно завопили казаки. — В скарбники его[2]!
— Та шо там в скарбники — пущай канцлером будэ! А батьку-атамана царём хотим, своим, казацким. Мы его на царице Маринке женимо.
— На кой она?! Ноги як хворостины, шо гусей гоняют, мы краще сыщем!
— Выпьем за здоровье царя Пасюка! Любо-о-о!
Пересохшим от долгого крика глоткам требовалась обильная примочка. Из примыкающего к амбару погреба выкатили пару бочек, вышибли из них крышки и стали черпать вино — кто ковшами, кто горстями, кто шапками. От такой неуёмности скоро на полу оказалась добрая половина самостийщиков. Пасюк I, восседающий на деревянном обрубке, и его приближённые крепились из последних сил.
— Хай живе наш батька-царь! — пронзительно провозгласил очередную здравицу Грицько.
Приуставшие подданные ответили вяло, лишь откуда-то сверху раздалось громкое эхо, а вслед за ним к царскому трону свалился пищащий ком.
— О, шо-сь такэ? Посветите.
Поднесли факел и замерли от изумления — на полу копошился живой клубок из связанных между собой хвостами крыс.
— Прими мех на царскую мантию! — прозвучало сверху, а вслед за этим раздался дикий хохот.
— Эге, кто-сь там балуе? — Нет, сквозь дым, застилавший верх строения, трудно было что-нибудь рассмотреть. — Ну, погодь же!