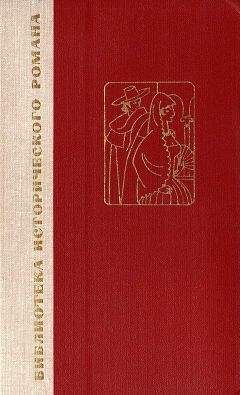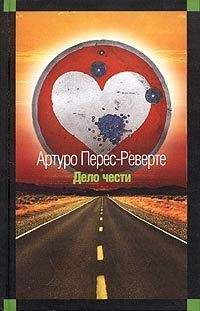Василий Авенариус - Гоголь-гимназист
— Вот тебе и долготерпение немецкое! — обратился Гоголь к Данилевскому.
— Нарыв лопнул, — сказал тот. — Но я все же еще не совсем уверен, что тебя требуют из-за Егора Ивановича.
— Никак нет-с, — вмешался сторож, — сейчас пришла почта, и господин директор как вскрыли одно письмо за черной печатью, так и послали меня за его благородием.
— За черной печатью?.. — пролепетал Гоголь, чувствуя, как вся кровь у него отлила к сердцу.
Данилевский также побледнел, но постарался ободрить приятеля:
— Не волнуйся, брат, попусту. Очень может быть, что письмо не имеет никакого отношения к тебе. Если хочешь, я пойду вместе с тобой…
— Нет, нет, оставайся. Тебя ведь не звали…
«Неужто из Васильевки?» — говорил себе Гоголь, спускаясь по лестнице возможно медленней, чтобы на несколько хоть мгновений отдалить ожидаемую ужасную весть, а на пороге директорской квартиры приостановился, чтобы перевести дух. «Ну, чему быть, того не миновать!»
Стиснув зубы, сдвинув брови, он перешагнул порог.
Глава восемнадцатая
Осиротел
Орлай в видимом возбуждении, с понурой головой шагал по своему кабинету и заметил вошедшего пансионера только тогда, когда подошел к самой двери. Окинув мальчика быстрым взглядом, он молча и бережно взял его за руку, подвел к дивану и усадил рядом с собой. Вся эта безмолвная торжественность не предвещала ничего доброго.
— Вот что, дорогой мой, — заговорил Иван Семенович необычайно серьезно и в то же время отечески-ласково, как бы затрудняясь, с чего начать. — Изволите видеть… Всякое органическое создание на нашей планете — будь то растение, животное или человек — имеет свой земной предел, его же не перейдешь. Всякий из нас — и вы, и я, и все нас окружающие — с момента нашего рождения вперед уже, можно сказать, обречены к смерти. Еще Сенека говорил: «Ты умрешь неминуемо уже потому, что родился. Гораций в оде к Люцию Сексту, как вы может быть припомните, выражается в том же духе…
— К чему все это, Иван Семенович? — тоскливо прервал тут директора-филолога Гоголь. — Скажите просто: папенька умер?
Орлай остолбенел; потом с живостью обнял мальчика, точно опасаясь, что тот лишится чувств.
— Вы, Николай Васильевич, верно, виделись уже с посланцем из деревни?
— Нет; но папенька давно хворал и имел предчувствия. Так это правда: он умер?
Вместо ответа Иван Семенович схватил с соседнего стола стакан сахарной воды, заранее, видно, уже приготовленный, помешал в нем ложкой и подал Гоголю:
— Выпейте! Это очень успокаивает; я сам по себе знаю.
Гоголь отстранил было стакан рукой и хотел приподняться, но Орлай не допустил его до этого и приставил стакан к губам его:
— Сидите и пейте!
Пришлось повиноваться; две выступившие на ресницах юноши слезы были единственными наружными знаками его душевного потрясения. Сморгнув их, он спросил каким-то чересчур уж бесстрастным тоном:
— А когда и как это случилось?
— Скончался он несколько дней назад, и не дома у себя в деревне, а в Лубнах, где лечился. Да вот маменька ваша прислала вам письмо: вероятно, найдете в нем подробности.
Потробностей в письме Марьи Ивановны, однако, никаких не оказалось. Все оно заключалось из нескольких бессвязных, горьких фраз. Это был вопль отчаяния окончательно растерявшейся матери семейства, лишившейся в муже главной опоры в жизни. В последних строках своих глубоко религиозная женщина призывала на сына благословение божие и выражала уверенность, что всевышний поддержит в нем всегдашнюю его твердость духа перенести безвозвратную потерю.
— Ну, что? — спросил Орлай, не сводивший глаз с читающего.
— Ничего особенного… — пробормотал Гоголь и прокашлялся, потому что из глубины груди что-то неудержимо подступило к горлу. — Кто привез письмо, Иван Семенович?
— Дворовый человек ваш Федор.
— Можно мне порасспросить его?
— Конечно, можно.
Иван Семенович позвонил и велел кликнуть Федора. Тот, войдя, тут же бухнул в ноги панычу, сидевшему еще на диване, обнял его колени и принялся целовать ему руки, орошая их горючими слезами.
— Батечку паныченьку! Один ты у нас теперечки кормилец… Ох, горечко наше тяжке.
— Ну, будет! Как тебе, братец, не стыдно? Не баба, слова богу, — говорил паныч, которому при виде искренней горечи крепостного человека хваленая «твердость духа» готова была наконец также изменить. — Расскажи-ка все, как было, по порядку.
— По порядку? — повторил Федька, послушно приподнимаясь с пола и утирая рукавом увлажненные слезами щеки. — Давненько ведь уже хворать изволил у нас покойный — о-хо-хо! Да не очень-то доверял, знать, этим аптечным лекарственным снадобьям. Наездом разве в Кибинцах с дохтуром тамошним потолкует, возьмет от него лекарства, а сам потом и не принимает. Но тут, недель этак с пять назад, кровь у него горлом пошла. Последнее дело! Хошь не хошь, заложили бричку, поехали в Кибинцы. Ох, и не хотелось же ему в те поры ехать, сердешному!
— Что же, верно, предчувствие у него опять было?
— Стало, что так: кому охота в чужих людях помирать! Но как и барыне не так-то можилось, — сама травку пила и не могла с ним ехать, — то он наперед уже ее, голубоньку, успокаивал: «Не тревожься, мол, матушка, по-пустому, может, и долго там пробуду, но постараюсь вскорости вернуться…» Да так и не суждено ему было, горемычному!
Проглотив всхлип, Федька повертел кулаком в глазу, с ожесточением дернул длинный мокрый ус и сердито продолжал:
— И выдалась же, как на зло, дорога нам каторжная, прости господи: самая, что ни есть, распутица весенняя! Грязь по ступицу колесную. До Яресок еле дотащились и заночевали…
— До Яресок? Но ведь туда от нас всего шесть верст?
— А вот поди-ж ты! Да с распутицей бы еще с полугоря; но у папеньки от тряски дорожной, окромя прочего, еще и грудь нестерпимо заломило. Не сидится ему, вижу, в бричке: то выпрямится весь, то рукой за грудь схватится, и все-то тихонько про себя стонет. «Может, — спрашиваю, — сидеть тебе, милый пане, не хорошо?» — «Нет, очень хорошо, — говорит, — но грудью страдаю ужасно!» Да кабы ты, панычу, слышал только, как у него это вымолвилось: «Ужасно!» — все бы нутро в тебе перевернулось.
— И так уже перевертывается… Не расписывай, пожалуйста! — с подавленным стоном перебил рассказчика паныч. — Ну, и добрались наконец до Кибинец?
— На вторые сутки к ночи кое-как добралися. Думали спервоначалу полечиться там малость, недельку этак одну-другую, да и назад. Ан не тут-то было! Осмотрел его дохтур, головой покачал. «И полгода, мол, дай бог бы на ноги поставить». Как быть? В Кибинцах у них, сам знаешь, народу приезжего круглый год не оберешься, чистый базар: шум, веселие, игрища всякие. А больному человеку до игрищ ли? И положили перебраться в Лубны: благо, всего двадцать верст оттоле, да уездный город, и дохтур-то знакомый, господин Голованев…
— А Дмитрий Прокофьевич, что же, так сейчас и отпустил больного?
— Не хотел отпускать: всей душой ведь любил тоже покойного, заманивал его бостончиком, да как папенька сам оченно уж настаивал, то его высокопревосходительство отрядили отца Емельяна вперед его в Лубны к господину Голованеву договорить квартиру. Домой папенька тем часом отписал маменьке, чтобы выслать ему в Лубны всяких домашних припасов, а буде можно — и повара; отписал еще: как плотину уберечь приказчику от половодья; что изготовить к Светлому Празднику, что — к ярмонке, — словно перед кончиной своей весь дом свой хотел устроить. Да так вот и проститься-то со своими на смертном одре не довелося, не токмо что нарадоваться на маленькую доченьку, что тем временем в Васильевке бог ему послал.
— Как? — вскричал Гоголь, вскакивая с дивана. — У нас еще одна маленькая сестрица?
— Да-с, недели две уже тому будет. Татьяной, Танечкой в купели окрестили.
— Бедная маменька! — вырвалось у сына. — А тут еще похороны мужа… Иван Семенович! не отпустите ли вы меня к ней в деревню?
— Охотно отпустил бы, милый мой; но погребение вашего папеньки, вероятно, уже состоялось…
— Точно так, — подтвердил Федька, — вчерась поутру его должны были погребсти…
— Вот, — сказал Орлай. — Маменьку же свою вы и без того увидите на летних вакациях, до которых уже недалеко. Утешить ее может только время; а для вас, Николай Васильевич, теперь перед экзаменами всякий день дорог и самым верным утешением будут служить усиленные занятия. Labor improbus omnia vincit[35].
Гоголь не мог не признать справедливости замечания директора.
— Так я пойду опять в музей, Иван Семенович… — глухо проговорил он и закусил губу, чтобы не совсем распустить нервы.
— Ступайте, мой друг, и главное — не предавайтесь слишком вашему горю; слезами беды все равно не поправите.
— Я, Иван Семенович, не плачу.