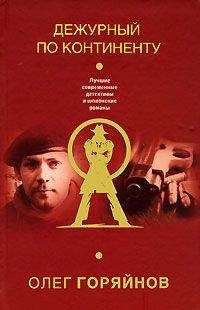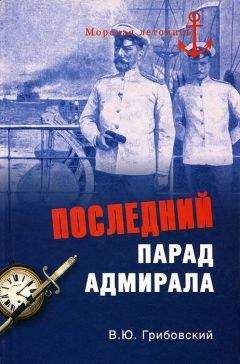Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков
Большие неприятности посетили ярославского воеводу Михаилу Андреевича Бобрищева-Пушкина. Его многолетнее хозяйничанье в городе, как можно было заключить по многим признакам, приближалось к концу. Происками врагов он навлек на себя сильное неудовольствие Санкт-Петербурга, и теперь неприятности — комиссии и ревизии — сыпались одна за другой.
Воевода жил в постоянной тревоге, ежедневно ожидая для себя самого наихудшего: отзыва в Санкт-Петербург, отставки, ссылки, заточения в каземат, — какого ни на есть поносного позора на старости лет.
Целыми днями глаза его были прикованы к Санкт-Петербургскому тракту, в мучительном страхе увидеть мчащегося в облаке снега грозного посланца бед. По ночам вскакивал он в холодном поту от мерещившегося ему звона бубенцов курьерской тройки.
Морозным январским утром, пятнадцатого числа, Михайло Андреевич находился в воеводском присутствии, когда у крыльца, сотрясая воздух оборвавшимся звоном, круто остановилась курьерская тройка.
Ноги Михаилы Андреевича отяжелели, во рту появился противный вкус тухлых яиц. Хотел пойти навстречу — ноги не повиновались. Рослый военный, гремя палашом, уже входил в кабинет воеводы.
— Сенатской роты подпоручик Дашков! — четко рапортовал прибывший. — Во исполнение высочайшего ее императорского величества указа, данного правительствующему сенату…
Михайло Андреевич в полубессознательном состоянии опустился в свои нарочито обширные кресла.
— Указ ее величества, приказано произвести в действие незамедлительно, — отчеканивал офицер, разворачивая бумагу с печатями.
Курьер звонко прочел:
«Всесветлейшая, державнейшая, великая государыня, императрица Елисавет Петровна, самодержавица всероссийская, сего генваря 3 дня всемилостивейше изустно указать соизволила…»
Дашков сделал передышку и продолжал:
«Ярославских купцов Федора Григорьева, сына Волкова, он же Полушкин, с братьями Гаврилой и Григорием, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто им для того еще потребен будет, привезти в Санкт-Петербург, и того ради в Ярославль отправить отседа нарочитого, и что надлежать будет для скорейшего оных людей и принадлежащего им платья сюда привозу, под оное дать ямские подводы и на них из казны прогоны деньгами.
Сей указ объявил: Генерал-прокурор князь Трубецкой. Генваря 4 дня 1752 года».
Воевода сидел, не веря ушам своим. Тряс головой, притирал глаза. По мере чтения указа, подавленность его, близкая к потере сознания, постепенно переходила в буйную, неукротимую радость, в восторженную благодарность к посланцу-благовестнику.
— Слава в вышних богу и на земли мир… — произнес воевода, перекрестился и благоговейно поцеловал бумагу.
— Восемь дней в пути, господин воевода… — деликатно напомнил Дашков.
— Да, да… быстрее ветра, сказать дозволительно, — не понял тонкого намека воевода. — Что же касаемо комедиантов моих, господин поручик, — ведь я якобы отцом крестным ко оным учинился. Под крыле моими росли и оперялись птенцы оные, призываемые ноне волею монаршею в стольный град… Милости прошу ко мне в палаты, посланец радости…
В Ярославле царил переполох, вызванный необычайностью высочайшего указа. Воевода не находил подобного примера ни в опыте дней своих, ни в летописях прошедших веков. Бывали случаи, когда вызывались из тьмы неведения правители, полководцы, спасители отечества, радетели о вере и молельники перед престолом небесной заступницы, но чтобы к престолу владычицы земной вызывалась с курьерами комедиантская шушера, этакого еще не было слыхано.
Федор Волков не знал, радоваться ему или печалиться. Он не особенно доверял капризу российской повелительницы. Мучительно жаль было покидать свой театр и своих дорогих смотрителей. Сильнее других мучила мысль — надолго ли? А вдруг надолго? Ничего неизвестно. Мрак. Мгла. Неизвестность. И думать не стоит… Наипаче следует подумать об одном лишь, — как бы лицом в грязь не ударить. А там — будь что будет. Во всяком случае, Ярославль-то от них не уйдет.
С общего обсуждения охочих комедиантов отобрали компанию в двенадцать персон: четверо Волковых — Федор, Гаврило, Алексей да Григорий, — Алексей Попов с братом Михаилом, Иван Нарыков, он же Дмитревский, Яков Шумский, Иван Иконников, Михайло Чулков, Семен Куклин да Демьян Голик.
Дома остался один Иван с матерью. Остальным комедиантам наказано: или ждать присыла за ними оказии по силе надобности, или ожидать возвращения восвояси самой компании комедиантской.
С восторгом и радостью уезжали только трое молодых — Гриша Волков, Ваня Нарыков и Алеша Попов, да еще «старик» Шумский, брадобрейное заведение которого совсем пришло в упадок за множеством хлопот по комедии.
Остро встал вопрос с дорожными одеяниями и с партикулярным платьем «для представления ко двору». У многих кроме русских рубах да потасканных шубенок положительно ничего не было. В таком виде, чего доброго, весь Питер можно распугать.
Выяснили все средства, извлекли и распределили между неимущими все затрепанные волковские «театральные» кафтаны. Каждый примерил на себе, подшил, подчистил и увязал в особый узелок — до Питера. В дороге можно в чем-нибудь, только бы тепло было.
Алеше Попову достался кафтан с самого Федора Волкова, — кафтан ничего, совсем парадный, только широковат не в меру. Алеша был вполне доволен и весело обещал потолстеть до Питера.
Сильно просился дьякон Дмитрий — «мешать краски». Ему наказано было вскорости ожидать особой оказии.
Федор имел продолжительную беседу с братом Иваном. Поручил ему смотрение за театром и заботы о матери.
— Коли Канатчиковы что затеют устроить по примеру нашему — не препятствуй им, отдай ключи, — сказал Федор брату. — А может и другая какая компания собьется. Из рабочих, паи свои внесших. Да я так полагаю — собьется. Свято место пусто не будет.
Матрена Яковлевна, провожая сразу четырех своих сыновей в неведомую даль, причитала по ним, как по покойникам. Старуха совсем потеряла голову.
— Матушка заступница! Пошто такая напасть! — только и повторяла она ежеминутно, как будто позабыв всякие иные слова.
— Мамаша, милая, успокойтесь, придите в себя, — уговаривал Федор мать. — Ведь не умираем же мы на самом деле. Вот увидите, через месяц-два вернемся к вам потолстевшие на столичных хлебах. И с подарками… Да и Иван с вами остается, не даст вас в обиду.
— Пошто такая напасть приключилася! — твердила старуха.
Утро в день отъезда было туманное и мглистое. Только-только пробивался рассвет.
Ямские кибитки с первыми комедиантами российскими отъезжали от воеводского двора. Провожать набралось порядочно народа: родные отъезжающих, рабочие, наиболее близкие из смотрителей.
Кое-кто из женщин поплакали.
Дьякон Дмитрий в своем рваном полушубке был серьезен. Хозяйственно обошел все кибитки, попробовал каждую подпругу у коней, — нет ли упущения какого; в дороге беда, коли что не исправно учинится.
Когда все было готово, воевода махнул ямщикам рукой:
— Скатертью дорога!..
Часть вторая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Комедианты приехали
Сосняк да ельник, вперемежку с редкими чахлыми березками. Березки оголены, даже снег на ветвях не держится. Бесконечные жердяные изгороди, местами — щелястые тесовые заборы, чаще — из горбылей.
Изгородями часто обнесены пустые кочковатые пространства с купами редких, ощипанных деревьев. Здесь, очевидно, собираются строиться.
Кое-где виднеется жилье с незатейливыми пристройками. Домики больше трехоконные, все на один образец, с неизбежной «светелкой», врезанной в крышу. Оконца нередко затянуты воловьими пузырями, местами прорванными и заткнутыми чем попало. Если стекла — то лиловато-зеленые, отливающие радугой. Крыши крыты дранью, лубом, полосками покоробившейся древесной коры, изредка — тесовые. Соломенных не видно, — солома дорога.
Изредка мелькнет широкий, поместительный «барский» дом шатром, с раскрашенными балясинками и «мизилинами»[49] на три-четыре стороны. Крыши, тесовые или железные, окрашены красным или зеленым.
Столбовой тракт, — в выбоинах, снежных валах.
Проехали уже две заставы, вот третья. Караульня не на русский манер. Столбы — с желто-черными косыми полосами; такие же полосатые рогатки.
Бритые караульные в нагольных тулупах до пят и ухастых шапках долго проверяют «грамотки»; считают людей в кибитках, запускают руки в сено, — щупают непрописанное. Ребята в повозках истомились, изломались, каждая косточка ноет. Тащатся, почитай, две недели. Намерзлись и наголодались. Обросли щетинистыми бородками. Пользуются малейшим поводом, чтобы выбраться из кибиток и потоптаться по снегу.