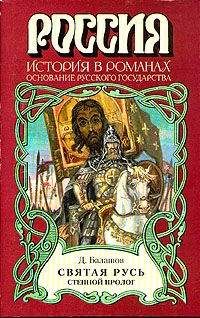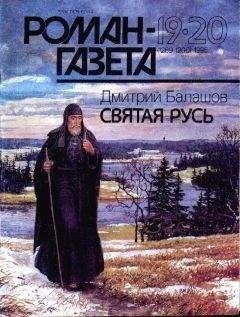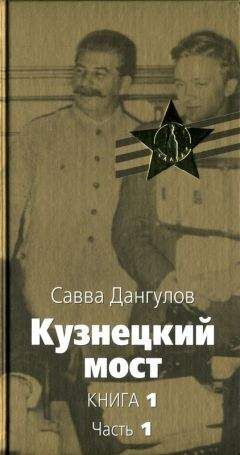Дмитрий Балашов - Святая Русь. Книга 2
И, если опуститься с высоты абстракций к истине деяний человеческих: чем связаны (и есть ли сама связь?) Кревская уния с загадочным пленением Дионисия Суздальского в Киеве и еще более загадочным бегством Федора Симоновского в обнимку с митрополитом Пименом из Царьграда (с тем самым Пименом, о снятии сана с которого и приехал Федор, племянник Сергия Радонежского, хлопотать в Вечный город, воздвигнутый императором Константином равноапостольным на берегах Босфора!?).
И не важнее ли все эти якобы разрозненные события самой Куликовской битвы, как-никак выигранного сражения в проигранной войне?
И сколько весили на весах истории упрямое нежелание князя Дмитрия видеть болгарина Киприана на престоле митрополитов русских или неистовая энергия Витовта, всю жизнь забывавшего о бренности собственной плоти? И что было бы, если бы…
Вопросы теснятся, обгоняя друг друга, и вновь уходят, растаивают, делаются прозрачными и призрачными пласты позднейших столетий с их бедами или с их славою, и вновь блазнит в очи исход четырнадцатого столетия, с его героями и его святыми, с его предателями и негодяями, в свой неотменимый час равно уснувшими в земле, души же их ты, Господи, веси!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
И вот весна, распахнутые волжские берега, все еще дикие, с редкою украсою городов над осыпями изгрызенных водою склонов. Близит Хаджи-Тархан, уже пошли неоглядные заросли камыша по протокам волжского устья, скоро Сарай, куда юный Василий Дмитрич плывет заложником, пока еще мало что понимая в сложной игре столкнувшихся здесь политических сил: в спорах вновь начавших тянуть вразброд русских князей, в грызне золотоордынских эмиров с белоордынскими, в сложной борьбе самолюбий и страстей, о чем его бояре знают пока куда более самого московского княжича.
— Гляди, кметь, верблюды!
Княжич Василий перевесился через поручни дощаника, разглядывая диковинных зверей с тонкими змеиными шеями. Иван (очень довольный про себя, что сумел вновь оказаться рядом с княжичем) начинает сказывать про тот, давний, бой под Казанью, в котором участвовал сам, и про полк всадников на верблюдах, пополошивших русскую конницу. Но княжич слушает его в полуха. К чему рассказ, когда вот они, с надменно запрокинутыми мордами горбатые длинношеие звери. Когда вот сейчас обнимет, заворожит густая разноязыкая толпа торговцев, пастухов и воинов, нищих в неописуемом рванье и знати в шитых золотом халатах, русских полоняников в долгой холщовой сряде, и персидских, бухарских, фряжских гостей торговых, закутанных в разноцветье своих одежд.
В город, когда-то заброшенный, многократно разоренный, с воцарением Тохтамыша влилась новая жизнь. Спешно строились новый караван-сарай, мечети, кирпичные дворцы знати. За жердевыми заборами теснились отощавшие за зиму быки и овцы. Ждали свежей травы, ждали ханского выезда на перекочевку, а повелитель, наново объединивший степь, все не мог решить: двинуться ли ему на Восток, в белоордынские пределы, к верховьям Иртыша, или устремиться в Заволжье, к Дону, туда, где располагались постоянные кочевья Мамаевой Орды? Шла яростная борьба местных и пришлых вельмож, но местные, кажется, перетягивали, так, во всяком случае, повестили русичам на подворье, куда потные, захлопотанные и порядком умученные московиты добрались наконец к исходу дня.
У княжича Василия, поначалу кидавшегося на всякую диковину, к вечеру разболелась голова. Он мало что понимал в сложном церемониале встречи, не вникая в толковню бояр, живо обсуждавших, кто из эмиров хана их встречал, а кого не было и почему?
Сидели все в низкой горнице за одним столом. Ели какое-то остро наперченное варево из баранины с лапшой. В баню Василия уже отводили под руки, и вымытый, выпаренный, переодетый в чистые льняные порты, он так и уснул, ткнувшись в курчавый мех походного ложа, и только смутно, провалами, продолжал еще чуять говорю над своей головой.
— Уморило! Сомлел! Вишь ты, дитя ищо…
Не успевши додумать и возразить гневно, что он уже не дитя, Василий уснул и спал, беспокойно вскидываясь, когда, во сне уже, окружала его вновь и вновь орущая и ревущая толпа людей и животных, и чудные верблюды вытягивали над ним, покачивая шеями, свои безобразные головы, грозя заплевать. По-рысьи улыбался встречавший их татарин в парчовом халате, и, укрощая гулы и грохоты тяжелого сна, подходила к ложу мать, склоняясь к изголовью: благословить и поцеловать спящего первенца своего. Тут он улыбнулся, сладко зачмокал и затих. А распаренные, в свой черед ублаготворенные баней старшие бояре, сидя тесною кучкой вокруг стола, едва освещаемого одинокою свечою в медном шандале, пили квас, поминутно утирая чистыми рушниками набегающий пот с чела, и, поглядывая на спящего княжича, все толковали — кому и к кому идти с утра на поклон да какие нести с собою поминки…
С заранья завертели дела. Не успели выхлебать кашу, как в горницу вошел, не скажешь, скорее ворвался Федор Андреич Кошка: «Скорей!» Княжича Василия вытащили из-за стола под руки. Кто-то торопливо обтер ему рушником рот, двое натягивали уже на ноги праздничные зеленые, шелками шитые сапоги с красными каблуками и круто загнутыми носами, кто-то тащил парчовый зипун, кто-то набрасывал на плечи атласный голубой летник с откидными долгими рукавами. Пожилая женка, жена ключника княжеского подворья, отпихнув мужиков, расчесывала кудри Василию и, сунув ему под нос медное, с долгою ручкой зеркало, в котором едва-едва можно было что-то разобрать: «Глянь, тово!» — сама старательно натянула на расчесанные кудри княжича алую круглую шапку с бобровой опушкою и вышитым по черевчатому полю золотою нитью крохотным изображением Михаила-архангела надо лбом.
Из полутемной избы — на солнце, в ярость ветра и света. Под руки — закинули в седло. И, весь то в горячем румянце, то в бледноте (вот оно, главное, подступило!) Василий уже сам подобрал звончатые цепи удил, потянул, как учили дома, выпрямляясь и откидываясь в седле, и конь, сгибая шею и кося глазом, пошел красивою поступью, всхрапывая, готовый сорваться в рысь или в скок.
Боковым взором отметил Василий давешнего кметя, что толковал с ним на корабле. Тоже скакал обочь, среди негустой дружины. Федор Кошка рысил от него чуть впереди, сидя в седле с такою упоительною небрежностью, какая дается только годами и годами опыта. Данило Феофаныч ехал чуть поотстав и плотно сидел в седле, с заметным трудом сдерживая гнедого могучего жеребца, норовящего вырваться вперед.
— К Тохтамышу? — Почему-то Василий был уверен, что Великий хан примет его тотчас. Однако ехали всего лишь к беглербегу, и, понявши это уже перед воротами дворца, Василий набычился и даже приуныл, и весь прием, слушая цветистые речи на непонятном языке, стоял молча, клоня голову, изредка взглядывая исподлобья, и не вдруг опустился на пестрый ковер, неловко скрестив ноги кренделем… Надо было отведать кумыса, взять руками кусок дымящейся горячей козлятины, пригубить кубок с вином, жевать потом кисловато-сладкую, вяжущую рот, какую-то вяленую восточную овощь. Бояре передавали дары, а Василий с внутренним сожалением провожал взором серебряную узорчатую ковань, струящуюся серо-серебристую броню из мелкоплетеных колец с полированным нагрудником, запечатанные корчаги с вином и медом… Бояре толковали потом, что прием прошел удачно, и беглербег остался доволен, а Василий чувствовал глухую обиду, супился и молчал. И уже вечером, становясь на молитву, поднял не по-детски тяжелые глаза на Федора Кошку:
— А что такое? — Он назвал запомнившееся ему татарское слово. Федор перевел тотчас, посмотрел на княжича внимательно, подумал, решил: — Завтра толмача пришлю, учи татарскую молвь! Не придет так-то… Как сей день… Поди, забедно было не вникать в нашу говорю? — Улыбнулся, морщинки лукавые потекли у глаз, и Василий неволею улыбнулся в ответ. По-детски не мог еще печалиться долго, а ночью, засыпая, все твердил запомнившееся татарское слово, поворачивая его так и эдак.
К Тохтамышу на прием попали только в конце недели.
Повелитель степи казался пронзительно молодым. Гладкое лицо с туго натянутою на скулах желтоватою, словно бы смазанною маслом кожею не давало понять, сколько ему лет. Кабы не жены, замершие на своих возвышениях за спиною великого хана, можно бы и вовсе юношею посчитать нынешнего хозяина многострадальной Руси.
Принимал московских бояр Тохтамыш не в кирпичном дворце, а в обширной двухслойной юрте. От горьковатого дыма курений, от пестроты шелков, коврового узорочья и парчи кружилась голова.
— Ты большой сын? — спросил Тохтамыш неожиданно по-русски и, выслушав сказанное ему толмачом на ухо, уточнил вопрос: — Наследник?
Василий кивнул. По лицу хана прошла, как отблеск костра, едва заметная улыбка.
— Будешь гость! — сказал он, и неясно стало, то ли это приглашение, то ли приказ, и что таится за словом «гость», сказанным по-русски великим ханом?