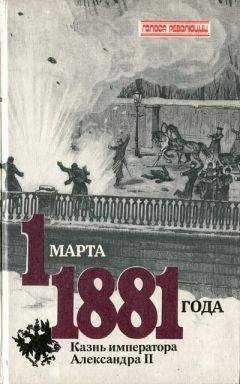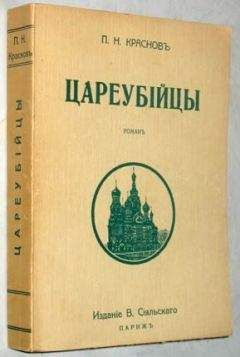Эдуард Зорин - Богатырское поле
— Горек и твой мед, Петрята, — сказал Володарь.
— С перчиком, с перчиком, — закудахтал огнищанин, захлебываясь смехом.
Городец деловито приказал:
— Ведите их в подпол. Да сторожите крепко.
Давыдку и Володаря подняли с лавки; подталкивая рукоятями мечей, вывели в сени, открыли яму, столкнули вниз.
В подполе было пыльно и зябко. В темноте скреблись мыши, пахло дрожжами и солодом. Дружинники посмеивались, стоя наверху:
— Мед-от весь не выпейте, нам оставьте.
— Оставим, — пообещал Давыдка. — Ишшо похмелитесь.
Подпол был заставлен кадями и бочками. В углу была свалена репа.
Володарь спросил:
— Нешто и впрямь заворотят?
— Заворотят, — сказал Давыдка. — Вдругорядь из княжеского поруба не уйти. Нынче уж как зол на меня Захария…
Ночь тянулась долго. Ни Давыдка, ни Володарь не сомкнули глаз. Выпитый с вечера мед перебродил, под сердцем, будто кол, стояла тревога. Эк оно! Беда что вода: нечаянно во двор приходит.
— Ты моей оплошки во грех не вмени, — сказал Володарь. — Достается сычке от своего язычка.
— Не язык тому виной, а лихие люди, — ответил Давыдка. — Лапти-то мы сплели, а концы не схоронили…
Стали они думать, как выбраться из подпола. Пробовали веревки перетереть о железные ободья кадушек. Перетереть не перетерли, только измучались. Однако молоды они были, долго отчаиваться не могли. Сморил их предутренний крепкий сон.
Проснулся Давыдка от свежего ветерка, подувшего по низу подпола. За бочками в дальнем углу, где была свалена репа, забрезжила светлая полоска. Быстрый шепот согнал остатки сна:
— Дяденьки, где вы?..
— Меланьюшка, — угадав по голосу, позвал Давыдка.
Девушка, все в той же белой рубашке до пят, склонилась над Давыдкой. Володарь тоже проснулся, зашевелился возле кадушек.
— Ты как сюда попала? — спрашивал Давыдка, пока Меланья, встав на колени, зубами распутывала узлы.
— Оконце здесь на зиму было прикрыто. Бегите, дяденьки. Отец мой — зверь. За что же душу невинную губить? Ох, бегите, худо будет мне!
— Да как же ты? Да что же это… — обнял ее Давыдка. От Меланьи терпко попахивало теплой постелью и лесными травами.
— Бегите, бегите, дяденьки, — поддаваясь Давыдкиной ласке и отталкивая его, снова прошептала Меланья, — Люб ты мне, сокол, так ли люб!..
— Бежим вместе!
— Не могу… А вернешься ли?
— Вернусь, — он схватил ее за руку, прижал к груди..
— Беги, миленький, поспешай… — задохнулась Меланья.
Давыдка с трудом продрался через тесный лаз, помог выбраться Володарю. Темно еще было на воле, но за гребнем частокола занималась голубая полоска рассвета.
Беглецы перебрались через городницу и побежали к реке. Здесь, в затишке, у глухо ударявшей в пологий берег реки, стояли на приколе лодки. Володарь отвязал конец. Давыдка оттолкнул лодку и прыгнул на корму. Упали на воду, изогнулись весла. Володарь, подымая брызги, налегал на них что было сил.
Выбравшись на быстрину, лодка поплыла по течению. Скоро Москва скрылась из виду. Подул свежак… По левому берегу реки кудрявился низкорослый кустарник, прорезанный тихими заводями, по правую щетинился чужой, неприветливый лес.
Когда беглецы свернули к берегу, втащили лодку в кусты и забросали ее речным мусором, уже совсем рассвело. На огнищанском дворе, поди, хватились пленников. Скачут по дорогам всадники, останавливают мужиков, расспрашивают баб — не видали ли кого, не проезжал ли кто от Москвы к Чернигову.
Радовались Давыдка с Володарем, добром поминали Меланьюшку. Долго шли они по лесу, держась реки; за полдень почувствовали сильный голод.
Беглецы приуныли, глядя по сторонам: ни души вокруг, ни жилья. На исходе дня ветерок пригнал едва ощутимый запах дыма. Володарь поднялся на взлобок, поманил за собой Давыдку.
Внизу виднелась небольшая деревушка. Крайние избы стояли у воды, на плоту копошились бабы. За речной петлей курился голубоватый туманец. Солнце уже склонилось за лесок, на деревню быстро налетали сумерки.
Володарь с Давыдкой сошли с холма и по мягкой тропинке, протоптанной скотом, выбрались на дорогу. У крайней избы мужик в засученных по колено портах месил босыми ногами глину. Время от времени он нагибался, нащупывал в глине ссохшиеся куски или щепки и отбрасывал их на дорогу. Рубаха, мокрая от пота, лепилась к тощей спине мужика, крупные капли стекали по его лицу.
Давыдка сказал:
— Бог в помощь!
Мужик молча задержал на нем взгляд и, не ответив, все так же старательно продолжал месить глину.
Возле трухлявого, проросшего зеленью сруба жарко горел горн. На земле стояло несколько готовых горшков; за срубом слышалось постукиванье гончарного круга.
Мужик помял глину рукой, выбрался из ямы. Не спеша подошел к воде, обмыл ноги и, вернувшись, пошуровал в горне угли. Убедившись, что горн прокалился, позвал хрипловатым голосом:
— Антип!
Постукиванье гончарного круга прекратилось, и из-за сруба вышел второй мужик. Вычесывая из бороды пятерней катышки глины, он кивнул незнакомцам.
— Антип, — сказал гончар, словно они были одни, — давеча дружинники наведывались, с тобой говорили. Аль спрашивали кого?
Антип скосил взгляд на незнакомцев, шмыгнул и провел пальцем под носом.
— Да вот сказывали, два татя утекли. Ежели что, донести старосте…
— А ты?
— А я што? У меня своя назола…
Гончар, тот, что месил глину, поддернул порты, крякнул и побрел в избу. Антип тоже не стал ждать и неторопливо последовал за ним.
Темнело быстро. Противоположный берег сначала сумеречно засинел, потом скрылся во мгле. Давыдка поглядел-поглядел себе под ноги — и шагнул к избе. Дверь поддалась легко, в избе плавал сизый дымок. Лучина бросала скудный свет на пол, на стены, уставленные горшками. Горшки громоздились повсюду — пузатые, продолговатые; маленькие — для похлебки и большие — для хранения вина. На столе, за которым, сгорбившись, сидели мужики, лежали глиняные свистульки в виде птичек, затейливые игрушки: лошадки с изогнутыми, как у лебедушек, шеями, овцы с закрученными в колесо рогами.
Увидев Давыдку, мужики переглянулись, и гончар сказал:
— Что там, входи. Неча попусту таиться.
— Кличь дружка-то, — добавил Антип и снова провел пальцем под носом.
Когда вошел Володарь, мужики подвинулись, освобождая гостям место на переметной скамье. Рассевшись, помолчали; прислушивались, как потрескивает лучина, а в низкой печи гудит под ободами упругое пламя.
— Будем вечерять, — сказал наконец гончар, и Антип, словно обрадовавшись поданному знаку, засуетился, выскочил за дверь.
Вернулся он с ковригой хлеба и четырьмя глубокими мисками. Поставил миски на сбитый из толстых досок стол, взяв ухват, вытащил клокочущий под глиняной закопченной крышкой горшок. Смешливо сморщив нос, вдохнул в себя парок, пошутил:
— Ушица на славу!
Поставил горшок на стол среди свистулек и глиняных лошадок, сбросил крышку. Давыдка сглотнул слюну, заворочался на скамье. Гончар сказал:
— Не томи, Антип, гости проголодались…
Приглядевшись, Давыдка заметил, что у гончара не такое уж и хмурое лицо, да и не стар он совсем, хотя щеки его и лоб, коричневый от загара, избороздили тонкие морщинки. Под густыми выцветшими бровями поблескивали совсем еще молодые серые глаза.
Антип обхватил пышущий жаром горшок полами рубахи, разлил в миски хлебово, потом большой деревянной ложкой выскреб гущу. Ели, как работали, не торопясь, обстоятельно.
Когда управились с ухой, Антип достал из печи рыбу с репой. Напоследок налил всем в пузатые, с ногтевым узором кружки золотистого квасу.
Наевшись, мужики помолились на образа. Антип, почесывая затылок, поманил гостей из избы, подвел к темнеющей у воды житие. Указал место в углу:
— Спите.
Житня была собрана наскоро, сквозь щели в стенах и в крыше виднелось усыпанное звездами небо. Давыдка и Володарь на ощупь пробрались в указанное мужиком место. Под ногами похрустывала солома; в углу она была сметана в невысокую копешку. Беглецы легли, прислушались к шороху воды за стеной, к шелесту пробегающего по верхушкам деревьев ветра.
Тревожно было у них на душе. Думалось разное.
— Далеко ли уйдем без коней? — сказал Володарь, уминая солому.
— Где ни будет, а от наших рук не отбудет, — отозвался Давыдка. Но и он понимал, что путь до Чернигова и опасен и долог. Пешком добираться и думать нечего. А добыть коней не просто. Разве только отбить у кого. На дороге разный встречается люд. Можно и рискнуть.
13Антонина скользила по избе неслышно, на отца поглядывала с беспокойством. Вот уже третий день Левонтий словно не в себе — огруз, ослаб, сидит на лавке, вздрагивает от каждого стука. Догадывалась Антонина об отцовой беде, знала — пошло это со дня Ярополкова судилища, как бояре стали кичиться, расправившись с мужиками. Нет-нет и теперь сведут кого на княжий двор, а там и концы в воду. Но Левонтия брать не решались — был у князя Микулица, пригрозил страшным судом. Не суда испугался Ярополк — испугался самого протопопа: ударит протопоп в било, соберет народ, далеко ли и до беды?! Зато многих других людишек побросали бояре в ямы, немало сирот пустили по белу свету. Вот и Левонтий взял к себе в дом востроглазого пострела Маркуху — сына осужденного Ярополком кожемяки Гришки. А еще знала Антонина: живет на задах в бане камнесечец Никитка. Носила она ему еду по утрам, любовалась, пока он ел, — красив и молод, в талии узок, глаза ясные, девичьи…