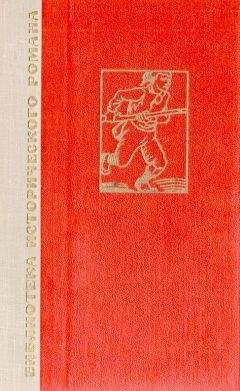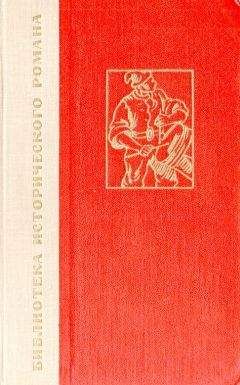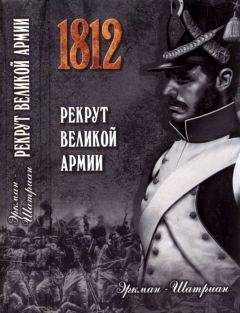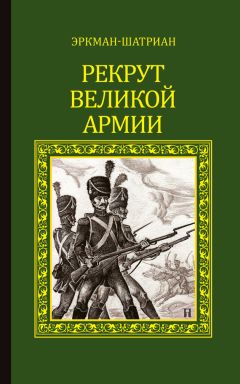Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк
А ведь и не довезем, и побьют, думал Иван в печали.
И вдруг отчаивался: лучше пусть варнаки в Сибири зарежут, чем помирать в темной пытошной в Санкт-Петербурхе. Лучше, ноги сбивая, тащить на себе роги для пороха, свинец, котлы медные для дикующих, лучше умереть от плохого горячего винца посреди луговой равнины, пасть под кистенем безбожного разбойника, чем жить так, как он жил в плоском сыром Петербурхе после нечаянной встречи с государем…
Магомете, Христов враже… Да что да-а-альший час покаже… Кто от чьих рук поляже…
Чем дальше, тем глуше становилось и сумрачнее. Не верилось, что кто-то в Сибирь мог ходить по собственной воле. «Господин Чепесюк, – спрашивал. – Зачем человеку так далеко ходить?»
Господин Чепесюк молчал.
И уж совсем не верилось, что кто-то, забредя столь далеко (об Якуцке или Камчатке даже думать не смел), мог вернуться отсюда.
А ведь возвращались!
Даже с края земли возвращались!
Тот же Волотька Атласов…
Атласова Иван никогда не видел, и видеть не мог, но казачий пятидесятник, по рассказам соломенной вдовы, не раз появлялся в доме Матвеевых с богатыми подарками. Соломенная вдова Саплина, тогда еще не вдова, даже не мужняя жена, а просто пухленькая веселая девица, вспоминала о Волотьке с особенным вздохом, с особенным блеском в глазах. Еще бы, ведь видела пятидесятника молодыми глазами. Это уже потом неукротимый маиор Саплин сделал для нее геройство совсем обычным делом, а тогда девица Матвеева была еще совсем молодой, вся горела, с ужасом и восторгом смотрела на светловолосого голубоглазого человека, ходившего так далеко, что там никто и не слыхивал христианского голоса!… Ох, запомнила Волотьку добрая соломенная вдова. Вслух часто произносила: «Волотька…» Так часто, что даже Иван его как бы видел.
По рассказам вдовы, Атласов был громок, в кабаках по углам не прятался, людей не боялся. Если входил в кабак, кабатчик сам бежал навстречу взволнованно – по осанке, по льняной бороде, по голубым холодным глазам и богатой одежде угадывал гостя. Ишь, какой! Царь Петр Алексеевич всем постриг бороды, а этот, гляди, в бороде, и нет на его платье лоскутьев красных и желтых, как полагается по государеву указу. Не пугался вслух говорить: «Творящие брадобритие ненавидимы от Бога, создавшего нас по образу своему!»
В канцелярии, работая с маппами, Иван внимательно изучил «Скаски» Атласова, отобранные у него в Якуцкой приказной избе еще в семьсот первом году. Понял, что тщательнее пятидесятника никто не вглядывался в далекий мир края земли, в который не каждому удавалось даже проникнуть. Случалось, конечно, что проникали, да там, на пороге неведомого мира и оставались – одни сраженные стрелой, другие – провалившись в ледяную полынью, третьи – сорвавшись с промерзлых скал. Известно, как легко собирать ясак: то ли сам умрешь, то ли дикующие в лесах зарубят.
Вот кто еще видел такое, как Волотька Атласов?
Те же дикующие, например. Они никакой ценности соболям не знают, режут хвосты, замешивают в глину, чтобы горшки были прочнее. Юрты у них легкие даже зимой, потому что земля постоянно трясется; построишь избу, так в ней тебя и задавит. Реки, перед которыми Нева кажется мелкой протокой. Горы, из их нутра дым идет, будто пережигают внутри каменья. Солнце, стоящее летом прямо против человеческой головы, даже тень не ложится под ноги. Птицы как пчелы, ягода как яблоко, деревья, величиной с гриб, и грибы, наоборот, поднимаются над деревьями – в сендухе. А с гор выпадают реки ключевые. Вода в них истинно зелена, а насквозь прозрачна. Брось в воду копейку – увидишь в глубину сажени на три.
Очнулся. Что ему до десятника Атласова? У того была своя жизнь.
Совал руку под полость, жадно нащупывал баклажку. По сторонам не глядел. Пусть глядит по сторонам чугунный господин Чепесюк. Что там увидишь? Покосившиеся поскотины, гнилые плетни, горбатые избы, грязные околицы. Твердо решил – сбегу! Ничто не удержит.
Бабиновская дорога долгая, старая.
По чертежикам знал. что идет Бабиновская дорога от Соликамска по верховьям Яйвы, дальше через Павдинский камень до реки Ляли. По лялинским берегам до устья Разсохиной, к речке Мостовой на Туру, и так до самого Тобольска.
На чертежике – интересно, а если въявь, то все те же размытые вешней водой мосты, покосившиеся поскотины, грязь, подводы с каторжными… Обдавало ужасным холодком, звал: «Господин Чепесюк!» – но чугунный человек не откликался. Одно утешение: сунешь руку под полость, а там баклажка… Твердо решил: даже до Камня терпеть не стану, сбегу. Назад все равно пути нет, и впереди смерть. Господин Чепесюк так иногда глядел, что становилось понятно – не видит господин Чепесюк Ивана, Иван для него только тень, может, для господина Чепесюка Иван уже умер.
Тогда тем более, чего тянуть? Вернешься в Парадиз – пытошная, с Чепесюком пойдешь – в пути сгинешь. Не хотел ни того, ни другого. В полузабытье светло мечтал: сбегу, сбегу! В рубище простом пойду каликою перехожим по дорогам. На папертях подадут, в деревне калач вынесут. Человек русский добр, на том и ломается. Думать буду много, смотреть, с разными людьми разговаривать.
Сразу светлее становилось на душе. Небо меньше пугало.
Вдруг вспоминал, в одном тонком сне было ему видение: облак мутный над головой. А над облаком еще что-то, тоже томительное и мутное, и куда взгляд не бросишь, вроде как сатанинское. Не положено так, не подсказано ничем, быть не может в божьем миру ничего такого, а вот смущенная душа точно угадывала – сатанинское…
Сам не знал, что о таком думать?
Смотрел с тряского возка на спокойное небо.
Небо светло стояло над миром, – видимо, аггел отвечал мыслям.
Тишь, благодать, лошади пыхтят, ветерком обдувает лицо, и вдруг снова за поворотом – каторжные. У кого ноздри рваные, чуть не кровоточат, у кого клеймо свежее на лбу – вор.
А впереди лес стеной.
Настоящий, темный, пугающий лес.
Такие вот варнаки каторжные сбегут из-под стражи, станет страшный лес еще страшней, чем при Соловье-разбойнике. Чувствовал, что если бежать, то уже сейчас, пока путь к Москве окончательно не потерян в лесах диких, нехоженых. Чувствовал, нельзя тянуть. Он не Волотька Атласов, чтобы смело рыскать среди дикующих. Часто думал с невыразимой обидой: дядя родной думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев любимого племянника погнал на смерть!… Понимал, правда, при этом, что никак думный дьяк не мог спасти его: он ведь сам чего только ни наговорил государю!… Так что, прав был дядя: пусть лучше зарежут племянника дикующие, чем замучает палач в пытошной.
Всю зиму изучал бумаги.
Лучше других изучил «Скаски» Атласова.
Прослужив в Сибири двадцать лет (все по своей воле), пятидесятник Атласов исходил ее вдоль и поперек, только за пять лет до нового календаря по указу якуцкого воеводы сел прикащиком в Анадырском остроге. Но сидеть на месте не мог, быстро заскучал. На собственные деньги собрал служилых да промышленных, прибавил к отряду шесть десятков юкагиров, их на севере волками зовут, и пошел неизвестным путем через Колымское нагорье, объясачивая по пути немирных коряков.
Пользу нес государству.
Спускаясь на юг к земле Камчатке, о которой был много наслышан, дошел до красивой реки Тигиль, а с нее повернул на реку, которую тоже звали Камчаткой. Там поставил на память простой деревянный крест с надписью: «205 году июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов со товарыщи.»
Может, и сейчас стоит крест.
Правильное, хорошее дело – распространение земель. Но Волотька Атласов на достигнутом не остановился. Оставив под охраной оленей, построил струги, и со служилыми, а так же с новыми нанятыми дикующими поплыл вниз по реке Камчатке. Проплавал три дня. Когда вернулся, не нашел олешков, угнали их воинственные коряки. Пришлось гоняться за дикующими. Догнал уже у самого Пенжинского моря, весь день дрались. Наверное, полторы сотни, не меньше, убили коряков, зато вернули олешков.
В 1700 году пятидесятник появился в Якуцке, где в приказной избе воевода Трауернихт, бритый белобрысый немец, да долгогривый дьяк Максим Романов подробно расспросили его о походе. А на следующий год Атласов был уже в Москве – с большим, даже с великим богатством, с апонским пленником, и со славой человека, сильно расширившего русское государство. Сам государь Петр Алексеевич милостиво разговаривал с Волотькой, внимание ему оказал – приказал дать пятидесятнику чин казачьего головы по городу Якуцку за присоединение Камчатки к России. Значит, подумал Иван, Волотька сильно был отмечен вниманием царствующей особы. Совсем, как я. И дошел до края земли. Правда, там, на краю земли, его и зарезали.
2
От мыслей о смерти Иван отмахивался.
Сразу приходил в себя, оглядывался на квадратного господина Чепесюка, если ехали на одном возке. Но господин Чепесюк молчал, будто дал обещание господу. Ничего не видит, а только смотрит вдаль, рядом текущее ему не интересно. Глаза полузакрыты.