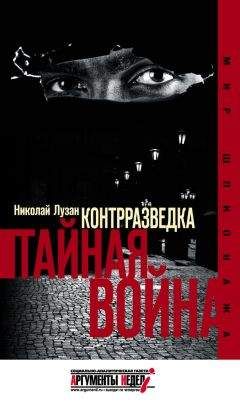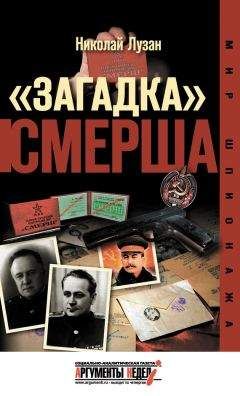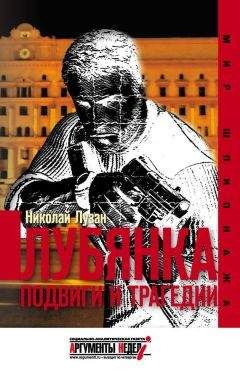Дмитрий Балашов - Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь: трилогия
— А римские изографы ныне пишут явственно и людей, и коней, и хоромы, и замки, и всю иную красоту земную на иконах своих! — сказала звонким, "серебряным" голосом.
— Умствуют много латиняне! — протянул Даниил Черный, хмурясь и отводя взгляд от разбойных серых глаз великой княгини. — Мы-то пишем святых, тех, в ком Господня благодать пребывает, а они телесного человека тщатся изобразить! Ето их до добра не доведет! Святых уже низвели на землю, пишут, яко рыцарей аль горожан, скоро и Бога низведут! Уже не ведают, человек ли служит Господу али Бог человеку. А коли человек становит соревнователем Господа, вот тебе тут и вся сатанинская прелесть! Да полно, што баять о том! Словами-то мочно и Сатану оправдать!
У Софьи признаком подступающего гнева слегка раздулись ноздри и потемнели зрачки. Но мастер словно и не заметил сановного гнева.
— Икона являет нам што? — продолжал он, уже теперь прямо глядя в очи великой княгине. То, что ее отец Витовт крестился трижды и последний раз перешел в латынство, ведали все. Василий же, который наедине с женою мало мог ей высказать истин о православии — всякий разговор кончался любовной игрой, — тут, как бы отойдя в тень, любовался живописцами, вступившими в тайный спор со своенравною литвинкой. Владимир Андреич, уразумевший игру племянника, хитро щурился, и Киприан, опрятно молчал, не вступая в беседу. Говорили одни иконописцы.
— Што являет икона, русским словом — образ? Чего образ? Чей? Земного естества? Дак то будет парсуна, то зачем и писать… А в иконе — над мирный смысл! Отрекись от злобы, зависти, вожделения, гордости — тогда постигнешь… Ты перед образом постой в церкви-то да войди в тишину, постой без мыслей тех, суетных, безо всяких мыслей! — повторил Даниил Черный с нажимом. — С открытою душой, тогда и узришь, и почуешь… Так вот надо писать! Почто мастер иконный держит пост, молитву творит, егда приступает к работе, прежде чем взяться за кисть?! Он просит благословения у самого Господа!
— И вы такожде? — чуть закусив губу жемчужными зубками, натянуто улыбаясь, спросила княгиня, оглядывая крупнотелого, могутного мастера, которому бы, кажется, не в труд было и бревна катать.
Данила Черный усмехнул покровительно:
— Мы с Феофаном на Страстной всю неделю вообще ничего не едим! — сказал, переведя плечом.
— И не долит? — вскинув бровь, с невольным любопытством прошала Софья, и не понять было, заботою али насмешкой полнился сейчас ее мерцающий взгляд.
— Нет! — легко возразил мастер, тоже улыбаясь слегка насмешливо (баба, мол, что с нее и взять!). — Привыкши! Чреву легше и голове ясней! Ты меня вопроси, — продолжал он, оборачиваясь к иконе, которую только что писал. — Што я хотел изречь? Не скажу! Феофан тебе повестит, он философ, а я не скажу! Вот написал — зри! А словами пояснять… Все суета! Реченное в иконе выше сказанных слов!
Киприан, посчитавший нужным тут поддержать своих мастеров, заговорил об опресноках, кресте, что латиняне чертят на полу перед собою и топчут затем ногами, об иных литургических различиях той и другой непримиримых ветвей христианства, словно бы убеждая княгиню принять святое крещение… Но Данила Черный почти грубо прервал владыку, отмахнув рукой:
— Да што каноны те! Не в их суть! Суть тут вот! В сердце, хоть так сказать… Сергия, радонежского игумена, видала, госпожа? Ну вот! Вот те и ответ! И слов не надобно боле! Надобно быть, а не токмо глаголати! Пото и икона надобна. А все прочее — обряд там, канон — ограда души, дабы не потерять себя, не принять прелесть змиеву за благовествование! Надо самому глядеть глазами праведника! Пото икона — прямее путь к Господу, чем богословские умствования… Про латин не скажу, а у нас — так! Ты, госпожа, то пойми: фряги человека ставят в средину мира, а ето прямой путь к безбожию! Ежели мир не станет подчинен Господу, то человек разорит его на потребу свою. До зела! Да и сам погибнет потом! В том и прелесть! Властью погубить, искусом власти! Того и от-вергся Христос в пустыне, молвив: "Отыди от меня, Сатана!" Икона должна взывать к молчанию, а католики взывают к страстям. У их ты как в толпе, зришь со всеми. Нету, чтобы в духовное взойти, а душевное, земное отринуть, отложить… Нету того в латинах! Права ты, госпожа! Пишут жизнь, как што делают, одежа там какая, прически, доспехи, хоромы ихние — все мочно узнать! А у нас нету того, у нас токмо божественное! И ты, умствование отложив, зри! И боле того пущай скажет тебе сама икона!
Мастер умолк и враз отворотил лицо, словно всякий интерес потеряв к своей знатной собеседнице. Софья, хмурясь и улыбаясь, притопнула ножкой. Подойдя к образу, взглядом подозвала Феофана.
— Ну вот я стою! Поясняйте мне! — приказала требовательно и капризно.
Феофан вежливо поклонился княгине, подступив близь, начал объяснять:
— Видишь, госпожа, икона — это не художество суть, а моление Господу! Пото и художник, изограф, по-нашему, не творец, а токмо предстатель пред Творцом мира! Отселе и надобно умствовать! Зри: сии персты, сии ладони, сии очеса! Они призывают, требуют от нас: оставь за порогом всякую житейскую суету и попечения плоти! Пока ты сам в суете земной, икона не заговорит с тобою, ибо она свидетельствует о высшей радости, о жизни уже неземной!
Присовокуплю к сему: быть может, для себя самих латины и правы. Люди разны! Вершитель судеб ведал, что творил, и недаром дал кажному языку особый навычай и норов. И католики, что тщатся одолеть православие, токмо погубят нашу страну! Не ведаю, госпожа, что произойдет с Литвою под властью латинян, не ведаю! Но Русь, принявшая западный навычай, погибнет. Православие — это больше, чем обряд, это строй души. Обрушь его — и обрушишь саму основу русской жизни.
Православная вера заключена в подражании, в следовании Христу, но не в подчинении римскому папе или иной другой земной власти. Отселе и монашеский чин, и борьба с плотию. Возрастание духовного — вот о чем главная наша забота и главный труд!
Иконописец у нас отнюдь не составитель евангелия для неграмотных, как то толкуют латиняне. Он — свидетель "изнутри".
Язычники-римляне живописали тело, но не Дух. Когда минули иконоборческие споры в Византии, живопись окончательно утвердилась в своем новом естестве: выражать не телесное, но духовное, живописать созерцание верующей души. Икона для нас — философия в красках. Она убеждает истинно, и тут уже невозможен спор. Тут или приятие, или — полное неприятие, с отрицанием божества и служением телу и дьяволу…
Взгляни, госпожа! Зришь, сии линии расходятся врозь, хотя по-фряжски должно бы им сходиться в глубине, ибо дальнее на земле уменьшает себя с отдалением. И хоромы, писанные там, назади, сияют светом, хотя в жизни светлее то, что перед нами, а дальнее уходит в дымку и сумрак. Однако все сие токмо в нашем, земном мире. Иконный же мастер открывает окно в тот мир, где дальнее больше ближнего, как Бог больше созданных им тварей. И светоносность не убывает, а прибывает по мере приближения к божеству! Вспомни, как Христос явил себя ученикам на горе Фавор в силе и славе. И света того не могли они выдержать земными очами! Пото полем иконы зачастую и служит золото. Оно же — немеркнущий свет! И, стоя перед иконой, молящийся как бы входит в тот, иной мир. А у фрягов, напротив, тот, кто стоит перед иконою, сам больше всех! Таким-то побытом и ставят они человека над Господом. Малое людское "я" становит у них мерою всех вещей! Мы же твердим: Нечто значимо не потому, что входит в мой мир, в мое зрение, но, напротив, я могу нечто значить лишь потому, что я, "аз", включен в Нечто большее, чем я сам.
Христианское смирение не позволяет нам называть человека мерою всех вещей, но токмо Господа. По слову Христа — смотри у Марка Евангелиста в благовествовании: "Иисус сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи владычествуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет всем рабом".
Служащий всем, понятно, меньше всех, и уже потому не может быть набольшим в мире. Преподобный Сергий, егда составилось общежитие, сам, будучи игуменом, разносил водоносами воду по кельям, добывая ее из-под горы.
— У вас все Сергий да Сергий! — раздраженно прихмурясь, протянула Софья.
— У нас так! — подтвердил Феофан. — Хотя и иных ратоборцев божьих немало на Руси! Теперь вникни, госпожа, вот во что: благодать — Господень дар, благодатию мы спасены через веру, но отнюдь не избавлены от дел, кои Господь предназначил нам выполнять. А дар требует приятия. Человек, созерцая, приуготовляет себя к приятию Господнего дара. И ты, госпожа, и супруг твой равно не вольны в поступках своих, но обязаны творить волю Господа! Стоя перед иконою, православный молящийся сам пребывает в мире том, раскрывает душу, дабы принять запредельную гармонию и неземной свет. Как же тут мочно живописать дам и рыцарей, сады и хоромы, все земное, над чем должно в час молитвы возвысить себя?