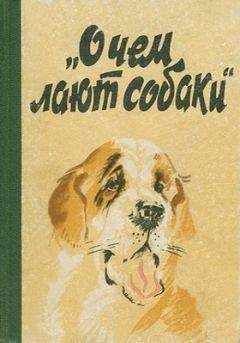Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
Сидел я вот так весь вечер, но ничего не придумал, а посему решил загипсовать стены и в большом кабинете наверху; когда-то там висели красивые обои – оттиски с больших картонных листов из королевской мануфактуры, сплошная охота и пейзажи – это была одна из причуд, какие позволил себе Мариано по случаю свадьбы; сам он охотился изредка и, скорее, неумело, но помнил деда, которому глаз по тем временам уже не служил, да и рука дрожала, но он тем не менее пару раз в неделю ходил «пострелять, чтоб не потерять форму», – ну и вместо того, чтобы брать пример со старика, подкрадываться к зайцам и мазать, купил себе обои с охотником, что разил зайца наповал из противоположного угла комнаты. Но Консепсьон сочла, что обои – гадость, и купила какую-то английскую дешевку, с накатом валиком. Коричневый виноград на трельяже[95]. Большие грязно-зеленые листья. Что может быть отвратительней?!
Я решил не трогать инструментов Мариано; просто окружил их стульями и другой мебелью, как Наполеон под пирамидами[96] окружил ученых и ослов и все вместе прикрыл тряпьем, – вот она, гора имущества семейки Гойя, большая, округлая, скрипка и стулья обросли мхом, ветер нанес песка и земли под крышку фортепиано, посеял там буйно поднимающиеся растения, время превратило дерево инструмента в гнилье, а метал покрыло ржавчиной. Я уже вижу, как через сто лет от нас не останется и следа, только груда камней. Высушенный на солнце кирпич превратится в пыль, и, может, лишь только остатки монастыря, что велел привезти сюда Мариано для романтических развалин, будут в чуть лучшем состоянии, и какой-нибудь исследователь станет ломать себе голову: что за восхитительное аббатство стояло когда-то на сем холмике бренных останков?
Так или иначе, у меня теперь пятнадцать свободных полей – шесть внизу (четыре поменьше и два побольше) и девять наверху (четыре побольше, четыре поменьше и небольшая supra portam[97] при выходе на лестницу). И все они пустые, от серых до белых, от влажных до сухих. А идеи все еще никакой.
Но ничего отвратительного, ничего мерзопакостного. Ни одной из тех картин, что черными штабелями лежат у меня в голове, никакой крови, беззубых ртов, демонов, служивых, ничего такого, чем старый хрыч столько лет отравлял меня, через глаза сочил свой яд прямо в мой мозг. Никакой гарроты, никаких бычьих рогов, пробивающих нежную ткань тела, никаких французских солдат, порывисто тыркающихся в белые ляжки (лица под задранной юбкой не видно). Ничего подобного.
Что-нибудь приятное. Пейзаж. Горы, серебрящаяся в излучине река, перехваченная каменным мостом. Гнущиеся на ветру деревья. Масса сочной зелени (надо будет послать Фелипе в лавку и закупить побольше зеленой глины), а временами какая-нибудь фигура: пастушок, почти неразличимый в безграничном пейзаже, мужик, отплясывающий на деревенском веселье, странник на муле – может, священник с требником, а может, купчишка, в страхе сжимающий кошель? Нет, никакого страха. Просто купец. Едет на обычном муле. Именно так. Священник, требник. Три пролета моста и серебрящаяся излучина реки.
Говорит МарианоБрюхан становился каким-то чудаковатым. Старость. Сразу после нашего возвращения из Парижа Консепсьон послала меня в Дом Глухого проверить, что с инструментами, да я и сам боялся за них. Приезжаю и уже с порога вижу несусветный бедлам, сам черт ногу сломит, в гостиной и музыкальной комнате все попереставлено, свалено в кучу, тряпки, какими прикрыт пол вдоль стен, путаются под ногами; в коридорах и на лестнице натыкаешься на какие-то ведра, мешки, палки для размешивания красок, разбросанные Фелипе где попало… в ужасе я полетел наверх – слава Богу, ни Брюхан, ни этот дурень не решились трогать и переносить инструменты, лишь, как палисадом, окружили их мебелью и прикрыли тряпками. Я позвал на помощь Фелипе, и мы очень осторожно поставили всю мебель на свои места, не повредив ни скрипку, ни виолончель. А потом я с невероятной бережностью вытащил их их-под фортепиано, вытер с них пыль, положил в футляры и сам, лично, опасаясь, как бы Фелипе не повредил чего-нибудь, собственноручно перенес их (глядя внимательно себе под ноги, чтобы не споткнуться о какое-нибудь ведерко или бутыль) в соседнюю комнату, потом запер ее на ключ, а ключ прицепил к цепочке от часов, и с той поры ношу его, как сокровище. К сожалению, с фортепиано ничего сделать было нельзя, оно так и осталось стоять посреди жуткого ералаша – единственно, я проверил, хорошо ли оно прикрыто, чтоб ни пыль, ни краска не попали внутрь и не попортили лака, и, вспотевший, в легком озлоблении (хоть от сердца уже немного отлегло), вернулся в Мадрид. Там мне еще досталось от Консепсьон, которая стала допытываться, что конкретно отец закрашивает. А когда узнала, что ее любимый золотой ситчик, тот, что выбрала перед свадьбой, устроила истерику и приказала мне еще в тот же день, вечером, вернуться в Дом Глухого и – как она выразилась – «объяснить своему придурковатому папашке, что махать кистью он может в своем личном доме, а не в том, который как-никак получил от деда ты». Я вылезал из кожи, чтоб ее убедить, дескать, сейчас уже вечер и уже поздно ехать за город, мне с большим трудом удалось ее урезонить, но и на следующий день она опять промывала мне мозги, чтобы «поехал и раз и навсегда поставил Брюхана на место». А у меня на это нервов не хватает, да и времени нет. Я ему сочувствую, в некотором смысле. Бегает из комнаты в комнату, вверх-вниз и малюет черт-те какие деревца и кустики. И все такое темное, унылое, вкуса никакого, тут скала, там тучка; дед, когда торопился с очередным заказом, давал подобное дописать ученикам-голодранцам. А он поднимает лицо этакого разжиревшего мопса и говорит: «Марианито, взгляни, как же тут будет хорошо, как обрадуется Консепсьон, даже она… представь себе, вы приезжаете с гостями помузицировать, и вместо всех этих ситчиков вас окружает красота, живописные виды со всех сторон, будто окон стало вдвое, нет, втрое больше и будто через все эти окна видно Мансанарес, прачек у воды, деревья… деревня, покой, прохладный ветерок, что за удовольствие музицировать в таком интерьере, ну, скажи! Огромное. Ведь едете-то подальше от города, шума, грязи, суеты, а тут, – и делает эдак ножкой, словно ожиревшая балерина в рабочем халате художника, – идиллия». – «Ладно, ладно, – говорю, – пишите себе, папа, на здоровье».
Говорит ХавьерОбщая идея пока не ясна. Знаю, это все еще не то. Но когда приехал Мариано, он, кажется, был восхищен тем, что увидел, тем, на что уже сейчас можно взглянуть. Богатство красок, разные поры дня – думаю, он тоже понимает, что за удовольствие будет приезжать сюда из города и играть на инструментах среди таких светлых пейзажей; ведь это же настоящая испанская деревня, запах раскаленного камня, вдали гора, над городом грозовая туча, мужик пляшет под согнувшимся деревом. Но это все не то, все еще не то – некоторые проемы по-прежнему совершенно пусты или же едва-едва покрыты рисунком, другие заполнены почти целиком. Я не умею писать каждую картину отдельно, да оно и невозможно, ведь краске нужно подсохнуть, а потому я перехожу от одной стены к другой, бегаю то вниз, то вверх, то вбегаю, то сбегаю, и все мне мало. Понятия не имею, за что хвататься в первую очередь, а за что потом, – и, похоже, по мне это видно, потому как, когда Гумерсинда выбралась сюда из Мадрида, она серьезно обеспокоилась, не болен ли я, случайно, и не нужно ли прислать доктора Диаса. Но я-то знаю, да и она тоже знает – когда-то, много лет назад, она видела, как я, так же, как и сейчас, не помня себя, писал «Колосса», а тот был куда как меньше; а теперь столько стен, столько сцен, столько тем! Когда проголодаюсь, а этого я почти не замечаю, лишь бурчание в животе напоминает, что я вот уже несколько часов ничего не брал в рот, да что там часов, бывает, почти целый день – тогда сажусь за стол, иногда возле окна наверху, и смотрю на Мансанарес. На прачек, повозки, на мужика, везущего на двуколке апельсины, которые он потом продаст торговкам, на изменчивый цвет воды – в полдень мышастая или зеленоватая, вечером же похожа на жилу золота в потемневшей руде полей и домов. А потом сбегаю вниз к какой-нибудь начатой картине – или даже нет, просто подхожу к ближайшей стене – и начинаю писать то, что видел: колышущиеся на ветру опахала ветвей, человека, идущего по дороге с мешком на спине. Но знаю, общая идея пока не ясна. Это все еще не то.
XXIX. Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции[98]
Начинается с точки, с зеленовато-черноватой капли краски на конце кисти – вот она коснулась стены и от размазывания знай себе растет. Предполагалось, что будет она листочком, трепещущим на октябрьском ветру, или тенью, что отбрасывает крона пинии, корнями вцепившаяся в крутой склон горы, а она все разрастается и разрастается, и превращается в черную глазницу, а потом разливается еще и еще, и теперь это половина откормленного рыла, но она идет все дальше, выпуская из себя темных червей – тень от носа и широких губ, которые тут совершенно некстати, безобразные, то и дело облизываемые влажным неугомонным языком.