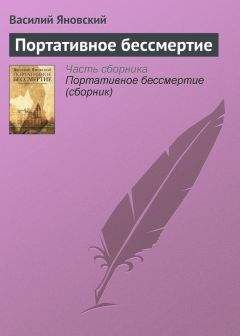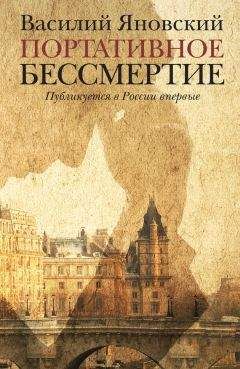Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Дряхлов в Париже после пятидесяти лет сохранил все свои национальные черты. Уроженец Поволжья, он сочетал в себе многие отталкивающие и привлекательные свойства коренной Руси.
В разговорах мы с ним постоянно доходили до самых границ «достоевщины», в пучине которой он себя чувствовал отлично. Валерьян Федорович хорошо играл в шахматы, и мы упорно сражались, исполненные то надежды, то отчаяния, то симпатии, то ненависти; из чувства мести начинали издеваться друг над другом, касаясь и личных тем, и литературы… А когда положение на доске менялось, мы добрели и проявляли даже чуткое внимание к нуждам полупобежденного противника. Страшная вещь шахматы!
Дряхлов был компаньоном Проценко по шарфам и галстукам; он прямо заявлял, что Яновского надо прогнать, потому что его работа в убыток…
– Вот как Кнут, – ухмылялся Дряхлов очень по-татарски: ядовито и доброжелательно (у Кнута тоже была мастерская по раскраске материй). – Придет к нему поэт с Монпарнаса, он ему пять франков всунет, а на работу не возьмет, потому что сплошной конфуз.
Наш общий друг Проценко смущенно, однако и забавляясь скандальной сценою, полупьяный, размахивая обнаженными мясистыми, пропахшими красками руками, мягко успокаивал его, усовещивал, посмеиваясь, усаживал всех за стол, наливал вина. Через несколько минут Дряхлов, нежно склоняясь ко мне, говорил:
– Я знаю, вам теперь нужна работа. Не могли бы вы хоть немного аккуратнее печатать кружева, а то только плешины у вас получаются…
– Хорошо, постараюсь, – страдальчески соглашался я: мне завтра сдавать физиологию.
– Вы мои лучшие друзья, – говорил Проценко.
Его изуродованный, разделенный глубокою морщиною, словно шрамом, на два этажа лоб и шишка на шее под самым ухом напоминали Сократа… Я его прозвал малороссийским Сократом.
– Вы мои лучшие друзья, – повторял он, осушая стакан. – Вы мне ближе жены!
И начинался сумбурный русский застольный разговор, питавший нас и вдохновлявший, несмотря на свою основную порочность.
Стихи Валериана Дряхлова ко времени первых номеров «Чисел» не были лишены колдовства… Вообще, когда перелистываешь старые журналы, внимание привлекают зачастую не «ведетты», а имена поэтов, стоявших «в тени», вроде Заковича, Дряхлова, Ставрова.
Раз весною Дряхлов опасно заболел. Я поднялся к нему в мансарду на Пляс де ля Републик. У него оказалась довольно банальная zona ophtalmique. Он очень страдал. Потом вирус вызвал род менингита и Дряхлова пришлось отвезти в Hotel Dieu, где я работал. Так как при исследовании у него обнаружился еще застарелый процесс в легком, то решили, что у него начался туберкулезный менингит, недуг по тем временам совершенно роковой. Все случилось так быстро, так неожиданно, что походило на бессмыслицу: только что прошла Пасха, цвела сирень, казалось, сил хватает на оплодотворение целой Вселенной… И вот сразу – конец!
– Смысла как будто не видно, но он, наверное, есть! – сказал я в утешение.
И это нас всех немного успокоило. Ибо смысла мы тогда искали больше, чем примитивного бытия.
Дряхлов вскоре выздоровел, но какие-то следы поражения остались навсегда: невралгия лица, странности, головные боли. Он уже давно увлекался тайными доктринами и эзотерическими докторами – читал Блаватскую и Крыжановскую. Теперь всерьез увлекся Рудольфом Штейнером.
В Париже были разные группы антропософов, враждующие между собою, как православные церкви, объединения монархистов, демократов, врачей, инженеров, казаков, наконец. Одна группа во главе с Наталией Тургеневой, сестрой Аси, жены Андрея Белого; другая велась Киселевой, любимой ученицей доктора Штейнера, которую он якобы вылечил от туберкулеза.
Даже я одно лето ходил в студию Киселевой и выделывал буквы алфавита в соответствии с правилами эвритмии; эти легкие гимнастические упражнения, несомненно, действовали благоприятно на усталых и беспомощных горожан. Кроме ритмических танцев привлекала еще сама Киселева, вся – благородная, скромная женственность. Иногда чудилось – она большая, тяжелая, подбитая птица, легко, к всеобщему удивлению, взмывающая с деревянных мостков.
Наталия Тургенева принадлежала уже к другой породе: интеллектуальная, способная оформить и определить несказуемое, сильная в теоретических спорах и не всегда деликатная в средствах… Впрочем, я Тургеневой тоже многим обязан и за некоторые эзотерические книги, «на правах рукописи» прочитанные мною, по сей день ей благодарен.
Я никак не мог стать верным учеником такого рода псевдонаучных или псевдорелигиозных школ, но пользу мне знакомство с их дисциплинами принесло. Федоров, Успенский… Никогда ко злу они меня не подталкивали и с Христом не разделяли. Хотя надо признать, что для некоторых душ опасность во всем этом несомненно кроется.
После своего чудесного исцеления Дряхлов всецело ушел в антропософию, погрузился в искусные медитации, перестал курить, пить вино, есть мясо… Одним словом, изменился человек. Может, ему действительно открылась аура цветка или «элементарного» духа, но для нас, друзей его, мирян, он был потерян: ни шутки, ни ругани, ни блеска былого. И перестал, кажется, писать (печатать) стихи.
Против всей этой «чертовщины» решительно выступал Проценко, который сам не писал, но на некоторых литераторов косвенно повлиял. При оригинальном, самобытном уме он шел почти до конца в своих логических построениях, невзирая на страх или боль. Надо ли пояснять, что выпивал он лишнее, жил безалаберно и умер рано. В какой-то период своего философствования Проценко пришел к выводу, что с кроликом и собакой в человеке не стоит бороться, изводя себя, пускай кролик, и обезьяна, и амеба живут, как положено им, а человек – как подобает ему, рядом, по соседству, не мешая и не изматывая напрасно друг друга. Бывали в этом ателье шарфов еще Константин Иванович – добрейший, приличнейший холостяк старого закала, инженер-химик, теперь мывший бочки, и Валерьян Александрович – судья, москвич («не хотите ли восприсесть»), любитель церковного пения, клубнички и дружеских пиров… Наша общая трапеза, а затем игра на бильярде повлияли на мое писательское развитие больше и положительнее, чем вся немецкая художественная проза в целом.
В тот вечер на рю Мазарин после моего чтения Мамченко решил, что я должен познакомиться с Адамовичем.
Как Адамович впоследствии мне со смехом рассказывал, Мамченко ему сообщил, что появился некто Яновский, который пишет «стопроцентную» прозу.
Я должен был явиться в отель Адамовича к полудню какого-то дня… Пришел я точно, как было условлено, но Георгий Викторович еще спал. Пришлось его будить, что критику отчасти не понравилось. Вышел в халате какого-то изумительного желтого цвета.
Догадываюсь теперь, что наша беседа в то утро для неумытого, беспрерывно запахивающего канареечные полы халата Адамовича была глубоко неинтересна. Я успел запальчиво в первые пять минут сообщить, что ставлю «Записки из подполья» очень высоко, что Алданов пишет скверные романы и что Толстой постоянно искал новую форму для своих произведений, как и подобает настоящему литератору. Разумеется, эти утверждения должны были подействовать удручающе на заспанного поэта; высказывался я в те годы очень резко и без всякого внимания к симпатиям собеседника.
Однако Адамович был по-петербургски любезен, обещал на днях прочитать мои произведения, которые я и оставил у него. Держал он эти рассказы, пока не потерял их. Но надо отдать должное его чувству чести и сознанию ответственности, самые неожиданные, но существенные черты в характере Георгия Викторовича, – через З. Гиппиус ему удалось раздобыть другие экземпляры варшавской «За свободы», где подвизался Философов, и статус-кво был опять восстановлен. Весною 1929 года Адамович меня привел к Мережковским.
Я пишу об Адамовиче, близком и чуждом мне, которого я любил и порицал, защищал и клеймил много десятилетий. Эта смесь разнородных чувств, одновременно уживающихся, не только не исказит реального образа, но, наоборот, надеюсь, поможет его восстановить.
Адамовича в первую очередь надо благодарить за возникновение и развитие особого климата зарубежной литературы. Конечно, без него существовали бы те же писатели, поэты или даже еще лучшие, быть может, но парижского «тона» литературы, как особого и единого, всем понятного, хотя трудно определимого стиля, думаю, не было бы! И за это, надо полагать, когда-нибудь многие «москвичи» ему скажут спасибо.
Шарм, которым Адамович обладал в большей степени, чем кто-либо другой в эмиграции, шарм этот не должен умалять его подлинных заслуг, несмотря на все слабости и грехи. Основным же грехом его я считаю приблизитилизм!
Кстати, я один из немногих парижан, который умудрялся без всякого заранее составленного плана быть в хороших отношениях одновременно и с Адамовичем, и с Ходасевичем, хотя и по-разному…
Адамович, как это ни казенно звучит, создал школу, или, вернее, антишколу, что почти совпадает, объединявшую вокруг себя лучших молодых людей того времени. Без Адамовича, конечно, те же писатели и поэты подвизались бы, но вне какого бы то ни было объединяющего начала. В результате родилось одно органическое сознание: нужного и ненужного, важного и неважного, вечного и временного.