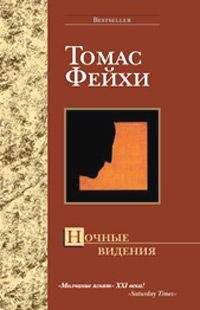Дмитрий Мережковский - Юлиан Отступник
— Да, да, еще бы я верил в Него!.. Слушай, девушка, я говорю теперь то, чего и сам не смел сказать себе никогда. Я ненавижу Галилеянина! Но я лгал с тех пор, как помню себя. Ложь проникла в душу мою, прилипла к ней, как эта черная одежда к телу моему: помнишь, — отравленная одежда кентавра Нисса. Геракл срывал ее с кусками кожи И тела, но не сорвал и задохся. Так и я задохнусь во лжи галилейской!..
Он выговаривал каждое слово с усилием. Арсиноя взглянула на него: лицо, искаженное страданием и ненавистью, показалось ей чуждым, почти страшным.
— Успокойся, друг, — молвила она. — Скажи мне все: я пойму тебя, как никто из людей.
— Хочу сказать и не умею, — усмехнулся он злобно.Слишком долго молчал. Видишь ли, Арсиноя, кто раз попался им в лапы-кончено! — так изуродуют смиренномудрые, так приучат лгать и пресмыкаться, что уже не выпрямиться, не поднять ему головы никогда!..
Кровь бросилась в лицо его; на лбу выступили жилы; и, стиснув зубы в бессильной ярости, он прошептал:
— Подлость, подлость, воистину галилейская подлость — ненавидеть врага своего, как я ненавижу Констанция, — и прощать, пресмыкаться у ног его по змеиному, по смиренному христианскому обычаю, выпрашивая милости:
«еще годок, только один годок жизни худоумному рабу твоему, монаху Юлиану; потом-как тебе и скопцам, твоим советникам, угодно будет, боголюбивейший1» О, подлость!..
— Нет, Юлиан, — воскликнула Арсиноя, — если так,ты победишь!-Ложь-сила твоя. Помнишь, в басне Эзопа, осел в львиной шкуре? Здесь, наоборот, лев в шкуре осла, герой в одежде монаха!..
Она засмеялась:
— И как они испугаются, глупые, когда ты вдруг покажешь им свои львиные когти. Вот будет смех и ужас!..
Скажи, ты хочешь власти, Юлиан?
— Власти, — он всплеснул руками, упиваясь звуком этого слова, полной грудью вдыхая воздух:
— Власти! О, если бы один год, несколько месяцев, несколько дней власти, — научил бы я смиренных, ползучих и ядовитых тварей, именующих себя христианами, что значит мудрое слово их собственного Учителя: кесарево-кесарю. Да, клянусь богом Солнца, воздали бы они у меня кесарево кесарю!
Он поднял голову; глаза сверкнули злобою; лицо озарилось, точно помолодело. Арсиноя смотрела на него с улыбкой.
Но скоро голова Юлиана снова поникла. Пугливо озираясь, опустился он на скамью; невольным движением сложил руки крестообразно на груди, по обычаю монахов, и прошептал:
— Зачем обманывать себя? Никогда этого не будет.
Я погибну. Злоба задушит меня. Слушай: каждую ночь, после дня, проведенного на коленях в церкви, над гробами галилейских мертвецов, я возвращаюсь домой, разбитый, усталый, бросаюсь на постель, лицом в изголовье и рыдаю, рыдаю и грызу его, чтобы не кричать от боли и ярости.
О, ты не знаешь еще, Арсиноя, ужаса и смрада галилейского, в которых, вот уже двадцать лет, как я умираю и все не могу умереть, потому что, видишь ли, мы, христиане, живучи как змеи: рассекут надвое-срастаемся! Прежде я искал утешения в добродетели теургов и мудрецов.
Тщетно! Не добродетелен я и не мудр. Я — зол и хотел бы быть еще злее, быть сильным и страшным, как дьявол, единственный брат мой! -Но зачем, зачем я не могу забыть, что есть иное, что есть красота, зачем я увидел тебя!..
Внезапным движением, закинув прекрасные голые руки свои, Арсиноя обвила его шею, привлекла к себе так сильно, так близко, что он почувствовал сквозь одежды невинную свежесть тела ее, и прошептала:
— А что, если я пришла к тебе, юноша, как вещая сивилла, чтобы напророчить славу? Ты один живой среди мертвых. Ты силен. Какое мне дело, что у тебя не белые, лебединые, а страшные, черные крылья,-кривые, злые когти, как у хищных птиц? Я люблю всех отверженных, слышишь, Юлиан, я люблю одиноких и гордых орлов больше, чем белых лебедей. Только будь еще сильнее, еще злей!
Смей быть злым до конца. Лги, не стыдись: лучше лгать, чем смириться. Не бойся ненависти: это буйная сила крыльев твоих. Хочешь, заключим союз: ты дашь мне силу, я дам тебе красоту? Хочешь, Юлиан?..
Сквозь легкие складки древнего пеплума, теперь снова, как некогда в палестре, видел он стройные очертания голого тела Артемиды-Охотницы, и ему казалось, что все оно просвечивает, нежное и золотистое, сквозь тщедушную ткань.
Голова его закружилась. В лунном сумраке, окутавшем их, он заметил, что к его губам приближаются дерзкие, смеющиеся губы.
В последний раз подумал:
— Надо уйти. Она не любит меня и никогда не полюбит, хочет только власти. Это обман…
— Но тотчас же прибавил с бессильной улыбкой:
— Пусть, пусть обман!
И холод слишком чистого, неутоляющего поцелуя проник до глубины его сердца, как холод смерти.
Ему казалось, что сама девственная Артемида, в прозрачном сумраке месяца, спустилась и лобзает его обманчивым лобзанием, подобным холодному свету луны.
На следующее утро оба друга — Василий из Назианаа, Григорий из Цезареи — встретили Юлиана в одной афинской базилике.
Он стоял на коленях перед иконой и молился. Друзья смотрели с удивлением: никогда еще не видели они в чертах его такого смирения, такой ясности.
— Брат, — шепнул Василий на ухо другу, — мы согрешили: осудили в сердце своем праведного.
Григорий покачал головой.
— Да простит мне Господь, если я ошибся, — произнес он медленно, не спуская пытливого взора с Юлиана,вспомни только, брат Василий, сколь часто в образе светлейших ангелов являлся людям сам сатана, отец лжи.
На подставки лампады, имевшей форму дельфина, положены были щипцы для подвивания волос. Пламя казалось бледным, потому что утренние лучи, ударявшие прямо в занавески, наполняли уборную густым, багрово-фиолетовым отблеском. Шелк занавесок был окрашен самым дорогим из всех родов пурпура — гиацинтовым, тирским, трижды крашенным.
— Ипостаси? Что такое божественные Ипостаси Троицы, — этого постигнуть не может никто из человеков. Я сегодня всю ночь не спал и думал, ибо имею к тому превеликую страсть. Но ничего не придумал, только голова заболела. Отрок, дай сюда утиральник и мыло.
Это говорил человек важного вида, с митрой на голове, похожий на верховного жреца или азиатского владыку,старший брадобрей священной особы императора Констанция. Бритва в искусных руках его летала с волшебною легкостью. Цирюльник как будто совершал таинственный обряд.
По обеим сторонам, кроме Евсевия, сановника августейшей опочивальни, самого могущественного человека в империи, кроме бесчисленных постельников — кубикулариев, с различными сосудами, притираниями, полотенцами и умывальниками, стояли два отрока-веероносца; во все время таинства брадобрития обвевали они императора широкими тонкими опахалами в виде серебряных шестикрылых серафимов, сделанных наподобие тех рипид, коими дьяконы отгоняют мух от Св. Даров во время литургии.
Цирюльник только что окончил правую щеку императора и принимался за левую, намылив ее тщательно мылом с аравийскими духами, называвшимися Афродитиной пеной. Он шептал, наклоняясь к самому уху Констанция, так, чтобы никто не мог слышать:
— О, боголюбивейший государь, твой всеобъемлющий ум один только может решить, что такое три Ипостаси — Отца, Сына и Духа Святого. Не слушай епископов. Не кaK им, а как тебе угодно! Афанасия, патриарха александрийского, должно казнить, как строптивого и богохульного мятежника. Сам Бог и создатель наш откроет твоей святыне, во что и как именно должно веровать рабам твоим.
По моему мнению, Арий верно утверждает, что было время, когда Сына не было. Также и об Единосущии…
Но тут Констанций заглянул в огромное зеркало из отполированного серебра и, ощупав рукою только что выбритую шелковистую поверхность правой щеки, перебил цирюльника.
— Как будто бы не совсем гладко? А? Можно бы еще раз пройтись? Что ты там говорил об Единосущии?
Цирюльник, получивший талант золота от придворных епископов Урзакия и Валента за то, чтобы подготовить кесаря к новому исповеданию веры, быстро и вкрадчиво зашептал на ухо Констанция, водя бритвой, как будто лаская.
В эту минуту к императору подошел нотарий Павел, по прозванию Катена, то есть Цепь: называли его Цепью за то, что страшные доносы, как неразрывные звенья, опутывали избранную жертву. Лицо у Павла было женоподобное, безбородое, нежное; судя по наружности, можно было предположить в нем ангельскую кротость; глаза тусклые, черные, с поволокой; поступь неслышная, с кошачьей прелестью в мягких движениях. На верхнем плаще через плечо нотария была перекинута широкая темн" синяя лента, или перевязь,-особый знак императорской милости.
Павел Катена мягким, властным движением отстранил брадобрея и, наклонившись к уху Констанция, шепнул:
— Письмо Юлиана. Перехватил сегодня ночью. Угодно распечатать?
Констанций с жадностью вырвал письмо из рук Павла, открыл и стал читать. Но разочаровался.
— Пустяки,-проговорил он,-упражнение в красноречии. Посылает в подарок сто винных ягод ученому софисту, пишет похвалу винным ягодам и числу сто.