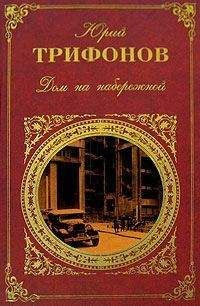Игорь Гергенрёдер - Донесённое от обиженных
Была оглашена сводка: на Кардаиловскую движутся силы красных. Офицеры дружно вспомнили высказывания «заезжего», и есаул предположил: он заслан большевиками, которых «так усердно ругал из неумелого притворства». Сотник, не исключая связи «гостя» с комиссарами, сказал, что видит «дело более тонким и тёмным: попахивает каверзами масонской ложи». Ротмистр нашёл эту мысль крайне любопытной…
Не заставил себя ждать вывод, что «гостеньком» надобно заняться контрразведке. На счастье Байбарина, офицеры не знали, где он остановился.
Прапорщик жадно всматривался в Прокла Петровича. Желание верить, что тот невиновен, едва держалось, разрываемое впечатлениями от услышанного вчера. Хорунжий, со своей стороны, был во власти скользких воспоминаний о Траубенберге. Тело даже как-то затомилось ощущением закручиваемых за спину рук. Соображение, что на сей раз, по причине иной обстановки, обойдутся, скорее всего, без этого и вопрос встанет не о высылке, утешало слабо.
Поспешно, но сердечно поблагодарив Антона, он хотел идти хлопотать об отъезде — Калинчин задержал:
— Отец дружил с вами — я так всё помню! Скажите… в том, что они думают… что-то есть? — его глаза глядели с ожесточённой прямотой, Прокл Петрович ощутил в их недвижности какую-то обострённую пристальность к малейшему своему движению.
Как ни причудливо это было посередь взбулгаченной станицы, да в столь рискованный для него миг, он, сосредоточив себя в усилии особенной плавности, обнажил голову, поклонился Антону в пояс и прошептал:
— Нет.
— Так идите! — прошептал и прапорщик в облегчении. — Я вас — бабушка учила — в спину перекрещу.
31
За кормой ходко плывущей лодки вода тихонько шуршала, и завивались, торопливо пропадая, воронки. Гребец, не старше шестнадцати, столь сноровисто действовал вёслами, что поглядеть со стороны — они легче утиного пера. «Малый с иным мужиком потягается в силе», — подметил Прокл Петрович.
Он и жена, закутанная в лисью шубу, устроились на кормовой скамье. Мы застали их в пасмурное послеполуденное время, когда небо стелилось над их головами старой сероватой ветошью. Лодка скользила вниз по Уралу, но, мнилось, стояла на месте — не отрывай только глаз от пологих всхолмков справа, что выступают верстах в двух от реки. От них до берега равнину изъязвляли промоины, глубокий овраг доходил до деревеньки. По вскопанным огородам перемещались впригиб к земле крестьянки. «Морковь, свёклу сажают, — определил Прокл Петрович, — самая пора!»
Слева вдоль разлившейся неспокойной реки лохматились одичалые многолетние заросли бурьяна, подальше разбросались по низине одинокие вязы и вербы, а совсем далеко пролегла сизая полоса раскрывшего почки ольшаника. На его фоне ехали шагом по ходу лодки четверо верховых. Баркас медленно настиг их, а когда стал обгонять, передний, ударив лошадь плёткой между ушей, послал её спутанным галопцем по косой линии к реке. За ним поскакали остальные. Все один за другим перегнали баркас; берег был топкий — из-под конских копыт летела слякоть.
Передний всадник левой рукой натянул поводья, правой опущенной держа карабин:
— Сюда греби-ии!!
Лодка вот-вот поравняется с верховым. «Он не далее как в сорока саженях — изрешетить нас ничего не стоит», — Прокл Петрович не успел это додумать, а парень уже завернул баркас поперёк течения и, усердствуя в жарком страхе, погнал к ожидавшим. Лодка плясала, переваливаясь через идущие вниз мутные волны, гребец, отталкиваясь вёслами, рывками бросал туловище назад, взглядывая на берег, выкручивал шею, и Байбарин видел на его виске темнеющий от усилий узел кровяных жилок.
Разгорячённая лошадь тянулась губами к воде, но верховой, положив карабин на луку седла, дёргал недоуздком, не давая ей пить. На нём городское серовато-голубое пальто, чьи рукава заметно коротки для обладателя, в петлице — большой красный бант.
— Из Кардаиловской едете, от белых! — крикнул человек утверждающе.
Баркас увяз носом в хлюпкой грязи берега, течение относило корму. Прокл Петрович, по-бродяжьи невзрачный, в отёрханной тужурке, поднялся со скамьи и трогающим вдохновенным голосом, каким произносят поздравления, сказал, обращаясь к конному:
— У моей жены, товарищ, страшная грыжа.
Всадник брезгливо крикнул:
— Всё врё-о-шь! Куда едете-то?
— Мы — крестьяне-погорельцы. Приютились было в Кардаиловской, но дале жить не на что, а тут ещё грыжа у жены… Добираться нам, товарищ, до Баймака. Там живёт наша дочь.
Другой конник, с кобурой на боку, сказал тому, что в пальто, главному:
— Баймак ещё при Керенском был всей душой наш — красный!
— Цыц, Трифон! — повелительно обрезал старший. — Перед тобой — белая разведка, а мы против неё вроде как дураки. А ну — тряхни их!
Трифон неохотно спустился с седла, сапоги утонули в слякоти до середины голенища. Он запрыгнул в лодку, стал рыться в баулах, на мокрое днище посыпался запас вяленой рыбы. Байбарин как ни в чём не бывало помогал: развязал узел, показывая завёрнутые в бумагу и в холст иконы, мешочек крупы, ложки. Главный приказал с лошади:
— Документы на это место! — и направил ствол карабина на носовую скамью.
Прокл Петрович гладил рукой голову жены, обмотанную платком.
— Никаких документов, дорогой товарищ, белые не дали. Бежали мы! Неуж они отпустили бы к нашим — к вам, к красным, товарищ?
— Есть! — коротко крикнул Трифон, выхватывая из баула нетолстую пачку ассигнаций.
Байбарин с горестной улыбкой заговорил, как бы ласково жалуясь:
— Чем же я расплачусь с лодочником, товарищи дорогие? А нам ведь ещё до Баймака подводу нанимать… и ночевать кто же пустит за здорово живёшь?
Меж тем главный, потянувшись с седла, цапнул деньги из руки красноармейца. Самый по возрасту младший из верховых, парень лет двадцати, указал плёткой на Варвару Тихоновну:
— Шубу мне надо… это, как его… для подарка.
Трифон, скрывая смущение, развязно закричал на женщину:
— Весна вовсю, мамаша, а ты утеплилась, как на Крещенье! Чего удумала. Сымай — проветрись!
Байбарин, огорчённо покряхтывая, стал стаскивать с жены шубу, а красноармеец ему выговаривал:
— Ты-то чего смотрел? Она перепарится и ещё хуже захворает. Откуда вы, старые, так боитесь простуды?
Ещё один конник в группке крикнул:
— Лучше бы меньше пердели! — одет он был в шинель, чем-то выпачканную и оттого порыжелую, из-под туго натянутой кепки топырились мясистые уши.
Трифон спросил Варвару Тихоновну:
— Дочь, гришь, в Баймаке. А её муж там не в совете?
— Не знаю, милый, — убито выдохнула женщина.
— Коли в совете — пусть он тебе новую шубу реквизует! — назидательно сказал красноармеец. — А на нас не обижайтесь.
— Я им щас обижусь! — закричал главный. — Они для меня — белые! Документов — никаких. Куда их пропускать? — Он двинул лошадь к баркасу, буро-чёрная грязь забрала её передние ноги выше колен. — Вот ты, старая, всё крестишься! А ну, поклянись Богом, что вы — не белые и к дочери едете?
Варвара Тихоновна, оставшаяся в бешмете, расстегнула его ворот, вытянула нательный образок и крестик на шнурке, прижала к губам:
— Как Бог свят, всё — правда! — произнесла скорбно и громко и осенила себя крестным знамением.
У них, помимо денег и шубы, забрали одеяла, с Прокла Петровича сняли сапоги. Когда снимали, жена вскричала стонущим голосом:
— Жалости у вас есть хоть напёрсток?
Будто не услышали. Трифон уселся на своего широкозадого серого коня. Тихо переговариваясь, красные поехали шагом от реки.
Лодочник-парнишка обрадованно схватился за вёсла — Байбарин приказал свистящим шёпотом:
— Не двигайсь!
Верховой в шинели с рыжиной повернул от группки вправо, пустил лошадь куцей рысцой вдоль реки, по ходу течения. Обернувшись, увидел: баркас покачивается на волнах на прежнем месте, всё так же увязая носом в болотистом берегу.
— Чо не едете? — конник держал в левой руке снятую со спины винтовку: из-за лошади её не было видно с баркаса.
Байбарин стоял в нём во весь рост:
— Стрелять хотите, товарищ? — взял под руку жену, помогая ей подняться со скамьи, воскликнул звучным голосом: — Примем смерть от товарищей! Будут стрелять.
Она молча стояла, привалясь к плечу мужа, подбородок у неё мелко дрожал.
Три всадника застыли невдалеке. Они и тот, что проехал вдоль реки и караулил баркас, смотрели на ожидающих пули.
— Лексан Палыч… — просительно позвал Трифон главного, — а-аа, Лексан Палыч?
Тот безмолвствовал. Конный в шинели и в кепке обернулся к нему, ждал. Как бы не замечая его, старший тронул кобылу с места трусцой. Верховой в кепке помешкал несколько минут — озлясь, поднял лошадь на дыбы, плёткой высек на её шкуре рубец и поскакал за остальными.