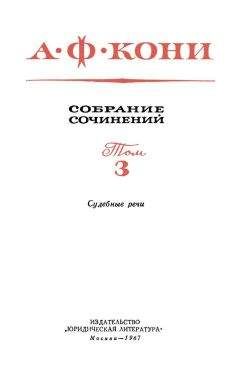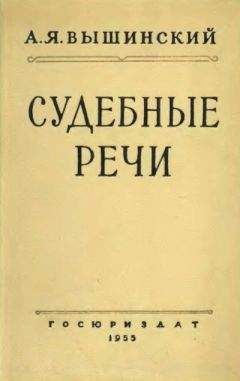Георгий Лосьев - Сибирская Вандея
Хоть бы патруль прошел!
Озябшие пальцы в шелковом карманчике муфты нащупывают свернутую бумажку – пропуск. Надежный, всамделишный пропуск, любезно выданный ей адъютантом начальника гарнизона Федей. В пропуске сказано: Филатовой Юлии Михайловне, телеграфистке, разрешается хождение по городу до двенадцати часов ночи.
Несмотря на терзающий душу страх, Юлия Михайловна улыбается. Какой вы смешной, «товарищ Федя»!.. Ну можно ли в это ужасное время подносить альбомчики, писать стишки, говорить о любви?
Юлия Михайловна почувствовала, что начинают мерзнуть ноги.
Сколько же можно стоять и раздумывать?… Нечего надеяться на патрульных. Надо отрываться от часового, надо идти в кромешный мрак. Сейчас, сейчас она перейдет вот этот длинный бугор наметенного снега, мышкой проскочит к следующему углу через улицу Гондатти…
Жил такой генерал-губернатор Сибири… генералы, полковники, рыцарски благородные безусые прапорщики… Как все далеко это теперь!.. Шипящие фонари на улицах, тройки с бубенцами, гимназические балы, кондитерские, наполненные всякой всячиной… Знакомства, многозначительные взгляды, поцелуи украдкой… цветы… Неужели – кончено?! Неужели пулеметы и тиф навсегда вычеркнули из жизни красоту, поэзию, вежливость?! Мрак, мрак!.. И эти свирепые люди-звери!.. «Прыгунчики». От одной мысли о них безумный страх совсем леденит сердце…
«Прыгунчики» появляются внезапно: вынырнув из переулка, словно привидения, с дьявольским хохотом рвут из ушей серьги, ножами отсекают пальцы, перехваченные кольцами, повалив овою жертву в снег, раздевают, а потом с хохотом и улюлюканьем мчатся во тьму на своих пружинных ногах-ходулях быстрее велосипеда… Ужас!.. Но еще хуже – «кошевочники». Это уже сама смерть разъезжает по ночным улицам, и ни патрули, ни Чека не могут с ней справиться… В буранной мгле пронесется черная упряжка, в воздухе свистнет аркан, тугая петля захлестнет горло, порвет шейные позвонки, а за городом, для верности, в бездыханное уже тело выстрелят.
Сколько таких случаев было!.. Боже, спаси, береги Юлочку! И зачем я, дуреха, вместо папиного старенького полушубка выпялилась в этот идиотский каракуль?!. Приманка бандитам!..
Страх выжал из глаз ледышки слез. Ну!.. Эх, будь что будет!..
Метнулась через сугроб. Ну вот, кажется, этот дом. Седьмой от угла, зеленые ставни, четыре окна. Конечно, этот! Но почему же такой маленький? Доктор говорил – большой, пятистенный. Нет… какая-то хибарка… Не тот!.. «Седьмой от правого угла». А от какого угла? Углов на любом перекрестке целых четыре. И каждый из них может быть правым… «Зеленые ставни».
Да разве разберешь в этой мгле, где номерной знак, где зеленые ставни, а где синие, красные, лиловые, черт их возьми, эти ставни!..
И вдруг рядом:
– Ну-с, что же будем делать?…
Спокойный, уверенный баритон заставил мгновенно повернуться к нему лицом. Из горла Юлочки вырвался не крик – вой: «А-а-а!..» Но баритон сказал еще спокойнее, наклоняясь к шапочке-ушанке:
– Ну и трусишка. А еще подпольщица. Вы же стоите на другой стороне. Идемте со мной, не бойтесь, меня послали ваши друзья.
Рядом с Юлочкой очутился высокий мужчина в черной шинели без ремней, нижняя часть лица его была закрыта башлыком; правой рукой он взял Юлочку под локоток, из рукава левой высунулся револьвер…
– Вот видите, совсем не надо было так бояться. Я охранял вас всю дорогу.
– Вас послал вслед за мной доктор? – безвольно прижимаясь к длинной шинели, спросила Юлочка.
Но высокий еще больше склонился к ней.
– Нет. Обо мне никому – ни слова! Я от высшей силы. Никто ничего не должен знать. Но помните – о вас заботятся…
– Значит, вы – наш?…
– Ну, конечно!.. «Нет ли у вас серебряного рубля?» – Юлия слышит заветный пароль.
Свой! Рыцарь без страха и упрека! Значит, так и нужно было, в целях конспирации. Ведь Юлия Михайловна в подполье совсем недавно, что она понимает? Дура, сто раз дура! Как могла она допустить, что ее бросят на произвол судьбы? Конечно, и над доктором есть еще какая-то «высшая сила»…
– Вот и пришли, – сказал провожатый. – Стучите в ставень по условию. Да возьмите же себя в руки, трусишка!..
Юлия Михайловна стучит в ставень. Стук. Пауза. Еще стук. Пауза. Три стука подряд… Но за окном – безмолвие.
– Еще раз! – говорит провожатый.
– Да, да, сейчас.
В щелях ставен появился свет. Раздался ответный стук: удар, пауза, удар… Конец ночным страхам!..
Провожатый исчез, будто растворился во мгле… Гремит засов. Калитка приоткрылась, сдерживаемая цепочкой. Кто-то с фонарем прохрипел:
– Ну?…
Что – ну?… Ах да, пароль!
– «Бог мое прибежище…»
– «И сила…» Входите, барышня…
Огромный двор. Конюшни. Сеновал… Фонарь раскачивается впереди. Вверх, вниз. Хриплый человек сильно хромает… Подошли к высокому крыльцу. Фонарь поднялся, освещая ступеньки, выхватил из тьмы лицо хромого – обыкновенный бородатый мужик…
Миновав коридор, вошла в полутемную кухню. Невысокая пожилая женщина встретила Юлию Михайловну, бросилась обметать снег с жакетки, напустилась на хромого:
– А ты чего стоишь? Живо – самовар!.. Чайку горяченького, чайку, Юленька! С медком, с вареньицем…
Юлия Михайловна, по-матерински обласканная, пила настоящий чай, заваренный из цветастой жестянки с надписью: «Чай байховый. Компания Высоцкого».
Хорошо-то как, тепло и уютно! Кухня такая же, как мамина, и эта заботливая женщина в пуховой шали – тоже походит на маму. Устала Юлечка. Спать хочется.
Но в двери входит хромой.
– Валентина Сергеевна… Зовут барышню.
Если бы здесь оказался хитроумный колыванский житель Иннокентий Харлампиевич Седых, он без труда узнал бы в ласковой и заботливой даме хозяйку с Седовой Заимки, ту самую, что провожала есаула Самсонова в Кривощеково и писала баронессе Анне Леопольдовне Фитингоф о своем намерении бежать в Новониколаевск от деревенского бескультурья. Вот и переехала Валентина Сергеевна.
Коридор длинный и темный. Хромой освещает путь зажигалкой. В конце коридора – двустворчатая дверь. Комната – типичная обывательская комната-столовая: венская мебель, большой стол, покрытый скатертью. На стенах – лепешки керамики с неправдоподобной глиняной снедью. У стены громадный черный буфет. В углу, на ломберном столике, лампа с зеленым абажуром… В черном глубоком кресле кто-то сидит. В комнате полумрак. Юлия Михайловна не может рассмотреть сидящего…
– Стул возьми, деточка. Подойди сюда.
Голос старческий, но приятный, без скрипучих ноток. Юлия Михайловна подходит к ломберному столику, садится, всматривается. Но лицо хозяина дома – она уже не сомневается: конечно, это хозяин! – невидимо. Свет абажура направлен только на Юлию Михайловну, и невидимый бесцеремонно разглядывает ее. Чуть прибавил огонек лампы, и Юлия Михайловна успела рассмотреть – рука длинная и старчески высохшая.
– Гм… действительно – красавица!.. – вслух комментирует хозяин. – …Ну, давай, деточка, познакомимся. Кто ты – я знаю, а меня зовут Иван Васильевич… М-да, Иван Васильевич… Так звали грозного царя, помнишь?… Вот и я – Иван Васильевич!.. – старик повернул лампу. Свет упал на строгое сухощавое лицо: запавшие глаза, мохнатые брови, черная бородка с большой проседью… Юлия Михайловна чуть не ахнула – до того походило это лицо на виденные не раз изображения Ивана Грозного.
– Господи!..
– Тс-с-с… – предостерегающе поднял палец старик. – Иди за мной, умница.
Он привел гостью обратно на кухню и приказал хромому:
– Открой…
В подполье стояли старинный тигельный печатный станок «бостонка» и пишущая машинка «ундервуд».
– Тут, деточка, и будешь работать, – сказал старик, – два раза в недельку. Два раза… Савелий сейчас тебе покажет и расскажет все.
Когда за Юлией Михайловной захлопнулась калитка, провожатый снова вынырнул из тьмы и подошел к воротам дома, возле которых всего несколько минут назад утешал посланницу доктора. Щелкнула зажигалка, на миг осветив следы валенок. Большие и маленькие… Провожатый нахмурился. Впрочем, к утру все занесет!.. Стоп! А это что?…
На снегу чернела рукавичка. Провожатый поднял потерю, сунул в карман, усмехнулся, не спеша перебрался через улицу и скрылся в буране.
Телеграфистка Филатова угодила на «сверхурочную» службу.
Работа была не очень обременительной – две неполных ночи в неделю. И несложной. Юлия Михайловна стала вести корректуру листовок деникинского «Освага», залетевших в Сибирь еще при Колчаке. Печатала выправленный текст на «ундервуде», отдавала в набор хромому служителю Савелию – и начинал греметь станок «бостонка».
Савелий оказался словоохотливым.
– Жил я перед революцией вполне даже порядочно, лавку завел. Наборщиком уж не работал… Потом в Бийек пришли краснюки, лавку отобрали, скот пограбили. Ну-к, что ж, осатанел я от злости, пожег все остатнее хозяйство и в горы ушел, а как переворот красным случился – подался в святые кресты, в дружинники, стал-быть.