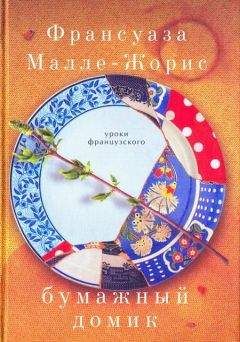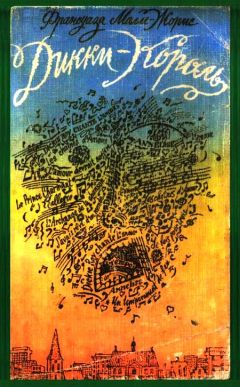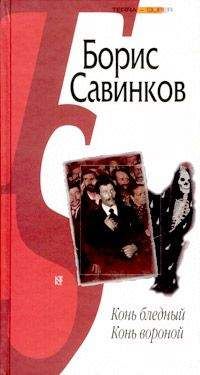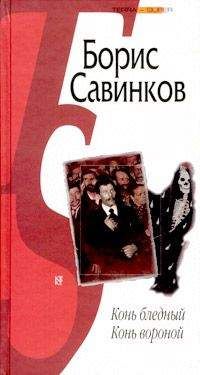Франсуаза Малле-Жорис - Три времени ночи
Запустил! Лучше бы он их действительно запустил, но земли были заложены, дома проданы, деревья в разоренной роще вырублены, и все это было данью излишествам и нелепой показухе, которой умеют потворствовать нахлебники, способом заполнить пустые провинциальные вечера, сомнительным образом компенсировать неудачную военную карьеру, да и неудачный брак.
— Да, в делах нам не повезло, — она сказала «нам».
— Я хотел, чтобы мы жили соответственно нашему положению, не опускались.
— Это как раз позволит нашей дочери рассчитывать на выгодную партию.
Она его прощает, оправдывает, и это Клод, которая была для него живым упреком! Неужели он до такой степени ошибался на ее счет? Де Ранфен представляет себе, как Клод втихомолку плачет из-за того, что ею пренебрегают.
— Беда, знаешь ли, в том, что ты слишком гордая, — неловко говорит он. — Ты ни на что не жалуешься…
— А на что мне жаловаться?
Он понимает ее слова так: на что мне жаловаться, раз я ношу ваше имя, раз я ваша жена? Он чувствует ее великодушие, но не чувствует презрения. Толстоватая у него кожа, у капитана де Ранфена, и он забавы ради сделал ее себе еще толще. Армия, которую он по безрассудству бросил, была все же его призванием и его семьей. Капитан — один из тех толстяков с горячей кровью, которых считают и которые сами себя считают грубыми материалистами, в глубине души, однако, они мечтают сойтись в схватке с абсолютом и переломать ему хребет. За неимением такой возможности они зачастую довольствуются жалкими подделками — алкоголем, женщинами, обжорством. Они недовольны собой и другими, но не осознают этого; однажды вечером они отдают Богу свою отяжелевшую душу с глубоким вздохом разочарованного ребенка, который принимают за последнюю икоту из-за несварения желудка.
— Она презирает нас.
Клод произнесла единственное слово, способное пробить защитный панцирь Лиенарда де Ранфена, — оно было как булавочный укол, после которого через грубую кожу проступит кровь. Тот, кто презирает самого себя, болезненно переносит презрение другого.
— Эта девочка?
— Она презирает нас. Ей скоро стукнет четырнадцать. Она держит себя со мной вызывающе, хочет всем показать, что мы для нее ничто. Надо с этим покончить. Отцовское влияние…
Когда он имел влияние в доме? Тираном его, положим, считали, но тираном совершенно недейственным, которого терпят, как стихийное бедствие, обременительное, но лишенное смысла, индивидуальности. Для того чтобы обуздать Элизабет, отомстить ей, Клод подставляет мужа, обращается к нему за помощью.
— Можешь мне довериться. Так не должно дальше продолжаться! Я не хотел вмешиваться, но раз ты меня просишь!
Супружеская чета. Впервые, может, они заодно. Клод показала ему свою рану, приняла в свой мир. Мысленно она сказала ему: «отомсти», предоставив ему таким образом роль самца. Ему остается лишь принять ее, а ей пассивно претерпеть это без слишком большого неудовольствия. Разве в ритуале, именуемом любовью, в той или иной степени не содержатся взаимные обязательства?
А ведь такие обязательства могут быть внушены сатаной.
Со следующего дня их союз явственно для всех еще более укрепляется, хотя внешне ничего не изменилось. Он по-прежнему гневно возмущается, она молчит. Однако все теперь по-другому. Даже лицо у Клод другое: слегка припухшие губы, порозовевшие щеки, опущенные глаза. Лицо женщины вместо тонких черт старой девы. Элизабет живо ощущает это последнее преображение, видит, как украдкой, словно сообщники, переглядываются объединившиеся против нее мужчина и женщина. В отчаянии она восклицает: «Разве я виновата? Бог хочет, чтобы я целиком принадлежала ему. Доказательство — непреклонность моего сердца, глухота к вашим крикам. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты одарил меня этим равнодушием». Но дар ли равнодушие? И доказательство ли отсутствие любви? Зарождается сомнение. Гордыня — излюбленное оружие сатаны… Не гордыня ли это — считать себя избранницей?
Элизабет молится. Святые, как и она, подвергались гонениям, но претерпевать их не означает ли попытку уподобить себя святым, не является ли предосудительной самонадеянностью? Воспитанная на постоянных подозрениях, она не доверяет самым чистым своим порывам, даже своей молитве. Спасаясь от материнских слез в своей комнате, на коленях она примется корить себя за то, что молитвой борется с этими слезами. Пусть материнская любовь неправедная, неистовая, но это все же любовь. Элизабет же в себе любви не чувствует. И что тогда выходит?
«Самой блестящей партией» оказывается пятидесятишестилетний вдовец Дюбуа, больной, но с репутацией человека зажиточного. Элизабет приходит в негодование, возмущается. Отец с матерью объединяются против дочери, причем отец ее бьет. Она стонет и считает удары. «Подстрекаю ли я их чем-нибудь и есть ли тут моя вина?» Пытка, превосходящая силы пятнадцатилетней девочки, лишенной какой-либо поддержки, находящей радость только в молитве. Однако иногда она запрещает себе даже молиться. С губ Элизабет срывается жалобный крик:
— Мама, что я вам сделала?
— Вы еще спрашиваете, да вы приводите меня в отчаяние, во всем мне отказываете. И думаете только о том, чтобы меня бросить.
— Если я выйду замуж, я тоже вас брошу.
— Дюбуа стар и болен. Ты овдовеешь, станешь богатой и вернешься ко мне.
— Никогда! — не сдерживаясь, выкрикивает Элизабет.
Клод дает волю своему гневу. О, она прекрасно понимала, что Элизабет стремилась только к одному: оставить ее. Она морит Элизабет голодом, одевает в лохмотья и в таком виде таскает по городу на изумление всей округе. «Моя дочь сошла с ума!» Служанок, которые выражают возмущение или просто удивление, выгоняют вон. Чужое удивление или возмущение мало значат для Клод и даже приносят ей своего рода горькое удовлетворение, ощущение свободы, которое она никогда прежде не испытывала. В маленьком кружке верных ей людей шушукаются, колеблются. У нее самой такой вид, будто она хочет сказать: «У меня есть право распоряжаться жизнью дочери, и я им пользуюсь, а почему бы и нет?» Она бросает вызов тому образу, который из нее создали, разрывает цепи, которые сама на себя наложила, она даже Богу бросает вызов в опьянении от внезапно осознанной легкости. Страсть гонит ее все дальше. Она безбоязненно встречает чужие взгляды, ухмылки: хотя некоторые осуждают сопротивление Элизабет, другие — и их несравненно больше — порицают жестокость матери, ее оскорбительные выходки, они вспоминают известные случаи, когда прославленные святые приходили в монастырь вопреки воле родных; наиболее сострадательные думают, что Клод сошла с ума, так, впрочем, считают и злые языки, которые присовокупляют: «И дочка вся в мать». При этом никто не клеймит позором отца. Да, он бьет дочь, запирает ее, ну так он же в своем репертуаре. Раз и навсегда все согласились, что он дурной супруг, мот, пьяница, тиран. Он почти разочаровал бы всех, отказавшись от этой роли. Никто, однако, не жалел Элизабет. Взбунтовавшаяся дочь получает по заслугам; полубезумная же, она никого не интересует, а как будущая святая, только выигрывает от этих гонений. К сожалению, и в этом случае жители Ремирмона — как монахини и богомолки, так и мещане, светские люди, торговцы — предпочитают мыслить по трафарету. Элизабет не безумная, просто она слегка заплутала в лабиринте, где ее заперли; бунт ее бессознательный, она задыхается от пятнадцатилетнего притеснения; она не святая, но ее влечет искреннее стремление, трогательная тяга к божественной любви.
Ее не жалеют, но и она не жалеет себя. Самый же чистый порыв души, тот, что приведет к отречению, она чувствует вечером того дня, когда Клод, наполовину обезумевшая от ярости и боли, потащила ее по улицам Ремирмона в старом разодранном платье и со следами отцовского рукоприкладства на лице.
— Мама, умоляю вас, не делайте этого! Ради себя самой не делайте. Что о вас люди подумают?
— А мне плевать, — сквозь зубы шипела Клод, таща ее за собой, как осла. Занавески на окнах раздвигались, добрые люди останавливались, восклицали:
— Да что случилось? Что с ней?
— Полюбуйтесь, — кричала разбушевшаяся Клод. — Полюбуйтесь, как она одевается, чтобы выставить на позор родителей. Она хочет нас бросить, сбежать в монастырь, она сумасшедшая, скверная, неблагодарная!
Люди сбегались, расспрашивали, сожалели. Элизабет больше не возражала. Она закрывала лицо свободной рукой и молилась.
И потом вечером она не плачет, но в порыве смирения вглядывается в себя, исследует то, что пока зовет своим призванием, и признает, что ее желание не совсем свободно от мятежных страстей и эгоизма. Она действительно хочет покинуть этот дом, эту чудовищную супружескую чету. Клод, приучая ее с детства пользоваться кротостью, послушанием, добродетелью, как своим основным оружием, навсегда их замарала. Благодаря несвойственной ее возрасту интуиции, которую изощрили несчастье и одиночество, Элизабет догадывается, что к ее решению примешиваются нечистые помыслы; в результате водный поток возрастает, увеличивает свой напор, но и загрязняется, — она желает, чтобы ей восхищались, одобряли ее поступки, желает утвердить свою волю, утвердить себя, свой образ жизни. А тут еще страх, стремление найти пристанище, утешение. Чувство любви у Элизабет так искажено, такой отпечаток наложило на него сознание своей вины, что она с ужасом думает: «Доставит ли мне радость сама любовь к Богу?» И это сомнение перетягивает чашу весов.