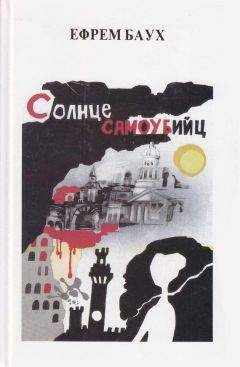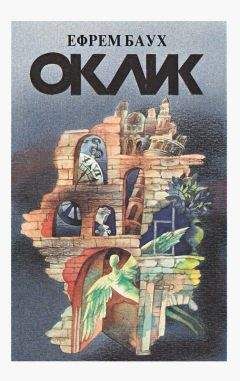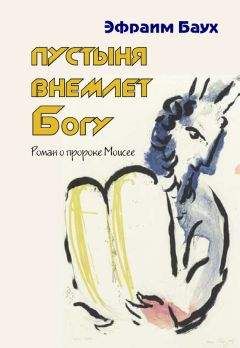Эндрю Миллер - Жажда боли
Собравшиеся рассматривают мальчика, кое-кто слегка кивает с весьма добродушным видом. Подходят близнецы и становятся рядом. Каннинг, оказавшись сзади, кладет одну руку на плечо Джеймса, другую на плечо Анн и говорит:
— Вот моя семья. Они дороги мне, как собственные дети. Подойдите же. Полагаю, они уже в том возрасте, когда можно отведать по рюмке кларета.
Близнецы всем понравились. От кларета щеки у девочек порозовели, глаза блестят, отражая огоньки всех зажженных свечей, ноздри подрагивают. Господа, поглощая напитки в свое удовольствие, ведут себя с ними все более и более галантно. Похоже, им нравится своеобразное обаяние близнецов. Девочки благосклонно улыбаются Джеймсу. Манера мальчика держать себя делает его старше, сдержаннее. Если бы не богатый костюм, его можно было бы принять за сына квакеров. У некоторых господ он вызывает любопытство, мальчика осторожно выспрашивают, но скупость его ответов быстро утомляет. И, отвернувшись, гости обращаются либо к графинам, либо к близнецам, либо друг к другу. С Джеймсом остается лишь толстяк Бентли, с лягушачьей головой, сидящей на бородавчатой шее. Он задает самые разные вопросы: что мальчик ест, как обычно спит, каково его общее самочувствие. Но во время беседы его ногти крепко держат запястье Джеймса, вонзаясь в кожу до тех пор, пока на ней не появляются капли крови, пачкающие Джеймсу кружево новой рубашки.
— Молодец Каннинг, что разыскал тебя. Мы еще потолкуем с тобой с глазу на глаз.
Он достает из кармана носовой платок и вытирает с пальцев кровь мальчика.
8
Его ни о чем не предупреждают.
Рано утром его будят, велят тепло одеться, подают чашку горячего шоколада и яичницу на завтрак. В холле ждет мистер Каннинг. Слуга разглаживает плечи его дорожного сюртука.
— Насколько я знаю, — говорит Каннинг, — ты еще не бывал в Лондоне. По мнению одних, это величайший город после Рима времен империи. Другие зовут его гостиной дьявола. Оба определения верны. Ты заходил к близнецам?
— Нет, сэр.
После вечера, когда демонстрировали действие воздушного насоса, близнецы слегли в лихорадке: им мерещился дым и огонь.
— Ничего, — говорит мистер Каннинг, — привезем им что-нибудь из Лондона. Веер или гребень. Что-нибудь à la mode.[30] Я так люблю делать им подарки.
Они выходят из дома, пересекают полосу солнечного света, яркого, как всегда в конце марта, и забираются в прохладное кожаное нутро экипажа. Раздается крик: «А ну, мертвые!», и колеса уже скрипят по гравию, неся их сквозь ласковую тень деревьев по подъездной дорожке к чугунным воротам, а потом все дальше и дальше. Каннинг достает из кармана «Философский трактат» и принимается за чтение, время от времени согласно кивая или с сомнением покачивая головой, если сталкивается с тонким или, напротив, противоречивым суждением. Джеймс, облокотясь, смотрит в окно. Из этого окна он в последний раз видел, как избивают Гаммера, как тот валяется на мостовой в Солсбери. Хорошо было бы снова его увидеть, узнать, что с ним сталось. Славной они были компанией в своем роде, да и дурачить такую прорву народа — дело забавное. Может, люди Каннинга его угробили или он висит, качаясь, на каком-нибудь перекрестке, закованный в цепи, — пожива для ворон. Кому на свете придет в голову оплакивать столь никчемного и хитрого человека?
В сумерках они уже проезжают мимо Кенсингтонского сада. Несмотря на вечернюю прохладу, Каннинг открывает окно, чтобы мальчик мог получше увидеть все вокруг, увидеть и услышать, ибо великолепные, освещенные фонарями площади, скачущие верхом военные, тачки, повозки и уличные торговцы создают любопытную городскую суматоху.
То тут, то там экипажи сталкиваются с портшезами. И тогда кучера и носильщики рычат друг на друга злобно и забавно, с поразительно чопорным видом обмениваясь лихо закрученными непристойностями. Между повозками петляют дети с огромными глазами и тоненькими ножками. Нищие тянут руки к окну их кареты, уворачиваясь от кучерского хлыста. Ветер доносит то запах гари, то помойную вонь, а иногда тонкий аромат, если мимо них проезжает карета светской дамы.
Вверх по Пикадилли, мимо Сент-Джеймсского дворца, плац-парада конной гвардии, по Стрэнду и Флит-стрит… Экипаж останавливается, лакей открывает дверь, Джеймс и Каннинг выходят. Поворачивают в узкий дворик налево, туда, где в глубине стоит освещенное фонарем здание. При их приближении пожилой человек в мантии и с жезлом в руке выходит навстречу.
— Добро пожаловать, мистер Каннинг, сэр. Почти все господа уже в сборе.
— Отлично, Лут. — Каннинг кладет монету ему в ладонь. — Ведите.
Они входят в здание, поднимаются по лестнице, шествуя мимо портретов президентов общества и бывших его питомцев.
— Знаешь ли ты, кто это, Джеймс? — Каннинг остановился перед самым заметным портретом. Худое, скучное лицо человека, пребывающего, судя по виду, в сильнейшем раздражении. — Сэр Исаак Ньютон, Джеймс. В юности я имел честь быть с ним знакомым.
Лут подводит их к двери в глубине дома, над которой в золотых завитках красуется надпись: «Nullius in verba».[31] Он открывает дверь, и оттуда доносится подобный прибою шум голосов. Шум стихает, когда собравшиеся замечают Каннинга. Некоторые лица — включая Бентли — Джеймс помнит по предыдущей встрече у них в доме. Лут жезлом ударяет в пол и объявляет имена вошедших. Взяв Джеймса за руку, Каннинг поднимается с ним на специальное возвышение. Там стоит стол с бокалом и бутылкой. Каннинг спрашивает:
— Вы достали то, о чем я просил, Лут?
— Все здесь, сэр.
И он передает Каннингу небольшой кожаный саквояж. Похоже, новый. Быстро открыв его, Каннинг заглядывает внутрь, кивает. Часы бьют восемь. Снаружи по всему городу разносится звон. Рядом с Каннингом стоит Джеймс, глядя поверх голов в сад. Накрапывает дождь.
— Господа! Коллеги… Я прибыл сюда сегодня, как и обещал, с целью познакомить вас с последним обнаруженным мною чудом природы. Я говорю о мальчике, который — вполне невинно — выступал в балагане бродячего шарлатана. Негодяй использовал его для демонстрации действия обезболивания, и сия демонстрация была на редкость убедительной. Когда же я исследовал состав предлагаемой панацеи, то понял, что это сплошное надувательство. Однако же я собственными глазами видел, что присутствующий здесь юноша оказывался ни в коей мере не восприимчив к боли. Ежели это обстоятельство не было — а оно явно не было — результатом действия снадобья, то как объяснить сей феномен? На некоторых демонстрациях я присутствовал лично, на другие посылал своих агентов. Естественно, я заподозрил какое-то мошенничество, свойственную шулерам и фокусникам ловкость рук. Лишь когда я полностью убедился, что это не так, я спас ребенка из столь несчастного положения и предоставил ему защиту и кров в своем доме. Теперь мне бы хотелось, пользуясь благорасположением присутствующих, произвести небольшой опыт, который, я уверен, убедит даже скептиков в том, что мы имеем дело с поразительным феноменом, достойным внимания глубокоуважаемых членов общества.
Из саквояжа Каннинг достает семидюймовую иглу. Она более похожа на медицинскую, чем та, которой предпочитал пользоваться Гаммер, но по всем остальным существенным параметрам такую же. Чтобы продемонстрировать ее остроту, Каннинг колет острием собственный большой палец. Потом поворачивается к Джеймсу. Мальчик протягивает ему руку ладонью кверху. Каннинг берет ее за пальцы, нацеливается и протыкает ладонь насквозь. Джеймс вопит. Каннинг с удивлением поднимает глаза. В зале тихо кто-то усмехается.
Каннинг говорит негромко:
— Мы не в балагане, сынок. Нам ничего продавать не надо. — Лицо у него уже отнюдь не ласковое, и отеческого в нем ничего не осталось. Каннинг обращается к собравшимся. Из-за его спины Джеймс смотрит на знакомого толстяка, который широко улыбается в ответ. — Следует объяснить, господа, что мальчику полагалось сперва имитировать боль, дабы убедить толпу в том, что он обычный человек, человек чувствующий, такой же, как все зрители. Если мне будет позволено еще раз злоупотребить вашим вниманием, я повторю эксперимент.
И он повторяет. На этот раз мальчик никак не реагирует. Собравшиеся ахают в изумлении. Этот звук хорошо известен Джеймсу.
Каннинг сует руку в мешочек, извлекает оттуда клещи и, подняв их вверх, с любезным видом демонстрирует присутствующим. Затем с их помощью вырывает Джеймсу ноготь на большом пальце левой руки. Дело это требует от Каннинга столь значительных усилий, что над его верхней губой выступают капельки пота. Он поднимает клещи с зажатым между стальными зубьями ногтем. Раздаются аплодисменты. Некоторые джентльмены стоят. Каннинг перевязывает Джеймсу палец и гладит мальчика по голове.