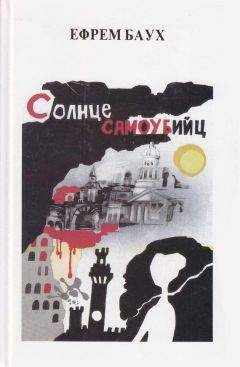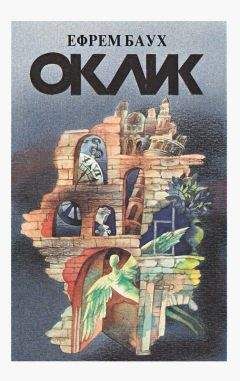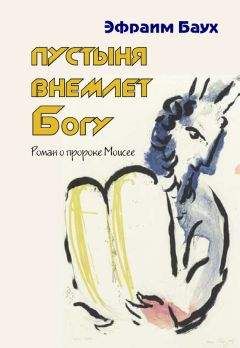Эндрю Миллер - Жажда боли
Молина выпрямляется, жестом велит мальчику идти вперед, они выходят, художник плотно закрывает дверь, запирает ее на замок и кладет ключ в карман. Начинается дождь. На озерной глади капли дождя образуют маленькие белые цветочки. Они бегут к дому, и по дороге чудесное неопрятное существо, принадлежащее Каннингу, заплывает в самые отдаленные уголки сознания мальчика, кружится там, питая его мечты и пробуждая ощущение странной неловкости.
7
В январе наступают заморозки. А в феврале приходит неожиданная оттепель. Реки плещутся у берегов, на дорогах каша. В праздник Святого Валентина Джеймс получает перевязанный нитью локон волос. Опять загадка, почерк чрезвычайно своеобразен. В следующий раз повстречав близнецов, он пытается разглядеть, у которой недостает отрезанной ножницами пряди, но в густой копне колечек и кудряшек разобрать ничего невозможно. Может, это подарок от них обеих. Раз уж у них одинаковые мысли, то почему бы им не испытывать одинаковых чувств? Неделю он пользуется локоном вместо закладки, потом теряет, возможно позабыв его в книге «De revolutionibus»[28] или среди страниц первого издания ньютоновской «Оптики», принадлежащей мистеру Каннингу. Близится самый важный день в жизни девочек. При одной мысли об этом они иногда даже теряют сознание.
Гости. Дюжина экипажей, облепленные грязью колеса. Слуги в дверях, точно пчелы у входного отверстия в улье, мистер Каннинг в камзоле из плотного зеленого бархата — безмятежный хозяин. Джентльмены раскланиваются, пожимают хозяину руку, произносят что-нибудь добродушно-шутливое, однако настроение у них, судя по всему, невеселое, отрешенное, словно в каждой из их голов сложена хрупкая пирамида идей, которые требуют ежесекундного внимания. Сжимая в руках трости, они спешат в мраморный зал. Наконец приезжает последний гость; его кони забрызганы грязью до самых удил. Слуги несут толстого господина через лужи к каменным ступеням.
— Дорогой мой Бентли.
— Мое почтение, Каннинг. Гнуснейшая погода.
Джеймс, затаившись, следит за гостями сквозь балясины перил над залом. Посмотрев вверх, Каннинг замечает мальчика и кивает, ничего более, но они понимают друг друга: Каннинг встретится с ним позже, Джеймс должен прийти. Все абсолютно ясно.
Внизу течет беседа, а сверху Джеймс наблюдает скопление голов; затем все следуют за Каннингом в сторону западного крыла. Дом проглатывает их. Слуга соскабливает с пола оставленную башмаками грязь.
Джеймс ждет в мастерской Молины. Портрет близнецов закончен и небрежно прислонен к кровати художника.
— Я боялся показывать его близнецам, — говорит Молина. — Живопись — недоброе искусство. Искусство вообще не бывает ни добрым, ни учтивым. Они вошли и стали смотреть, долго смотрели. Они очень счастливы. Так счастливы, что даже расплакались. Я тоже расплакался, ибо картина моя истинна. Я подумал о тебе, друг мой, о твоем портрете. Полагаю, мне будет очень нелегко, но я бы хотел попытаться. Ты согласен, не правда ли?
Согласен. Джеймс стоит спиной к невзрачного вида коричневой драпировке. На стол рядом с ним Молина кладет открытую книгу, которую утащил из библиотеки, когда мистер Коллинз вышел, повинуясь зову природы. Это редкое издание Бартоломео Евстахия «Tabulae Anatomicae Clarissimi Viri»,[29] раскрытое на странице с изображением мужской фигуры, ступни которой помещены в двух нижних углах, а кисти уперлись в небо. Голова повернута в сторону и напоминает воспаленную луну, кожа полностью удалена, дабы обнажить кровеносные сосуды. На рисунке сосуды похожи на запутанную корневую систему. В качестве анатомической иллюстрации это изображение обладает странной экспрессией. Кажется, что человек осознает свое состояние, испытывает боль и отвращение, словно он стал жертвой некоей омерзительной и необъяснимой хирургической операции. Открытое глазу сердце напоминает неаккуратно упакованный сверток. Видны даже мельчайшие сосуды полового члена. Небольшой темный отросток висит между освежеванных бедренных мускулов. Можно сказать и больше: изображенный на рисунке мужчина похож на объятого ужасом человека, который ждет возвращения своего мучителя. Молина находит, что рисунок должен присутствовать на портрете. Но не говорит почему. Наверное, решает Джеймс, чтобы показать его интерес к подобным вещам.
Молина рисует, сначала при свете дня, потом зажигает свечи. Первые наброски выбрасывает. Глядя на последующие, осторожно кивает. Джеймс смотрит на разбитые часы и говорит:
— Мне пора идти.
Молина кивает:
— Господа, вероятно, уже ждут.
Слуга встречает Джеймса в его комнате. На кровати разложена одежда, которой он раньше не видывал: камзол и штаны из красного атласа, шелковые чулки, туфли с серебряными пряжками. Никогда еще ему не доводилось носить столь роскошное платье. Мальчик смотрит в зеркало. Слуга ждет, держась на расстоянии, чтобы не портить картину собственным отражением. Когда Джеймс наконец поворачивается к нему, он ведет его в залу, где собрались господа, — там, на первом этаже, пахнет табачным дымом и химическими веществами. Ярко освещен лишь стол. Рядом установлено нечто непонятное, и именно оно приковывает внимание присутствующих. Это устройство с изящным основанием, наверху которого находится блестящий стеклянный шар. Внутри шара помещена голубка, она то сидит смирно, то бьет крыльями в стеклянные стенки. Стекло забрызгано снизу птичьим пометом. Господа собрались вокруг стола. Некоторые надели очки. Один делает какие-то заметки на пергаментной бумаге. Держась за ручку, прикрепленную к двум зачехленным поршням, расположенным в основании прибора, стоит мистер Каннинг. С помощью поршней из стеклянного шара предполагается откачать воздух. Мистер Каннинг называет этот шар «колоколом». Там, куда не доходит неровный свет со стола, очень темно, и эта темнота, возможно, скрывает и других зрителей. Джеймс делает шаг вперед. Головы поворачиваются посмотреть, кто пришел, их взгляды некоторое время задерживаются на Джеймсе, затем вновь обращаются к прибору. Они присутствовали при этом эксперименте десяток раз, но прибор Каннинга, созданный его собственными руками, являет собой образец особой научной роскоши.
— Итак, джентльмены, — говорит Каннинг и начинает поворачивать ручку. Птица тут же реагирует на изменение в атмосфере. Последняя отчаянная попытка улететь, разбить стекло. Яростный сгусток энергии. Потом ей на спину словно ложится невидимая рука и прижимает ко дну колокола. Некоторые из присутствующих кивают. Тот, что делал заметки, поднимает глаза и смотрит на птицу через очки, бормоча: «О, да, да». Другой отводит глаза в темноту. Каннинг продолжает поворачивать ручку. Птица бьется в конвульсиях, ее крылья, наполовину расправленные, прижаты к стеклу. Тело искривлено. Явственно заметны спазмы, которые становятся все слабее, пока не превращаются в подобие слабой дрожи. Слышно лишь размеренное щелканье храповиков на верхушках поршней. Птица более не двигается. Мистер Каннинг отпускает ручку. Тишина. Потом откуда-то из темноты слышится всхлипывание. Мистер Каннинг улыбается. У него лицо как у мудрого ангела. Он поднимает руку и запускает механизм над колоколом. Свистит проникающий внутрь воздух, и птичка мгновенно оживает, хотя ее движения похожи на движения пьяного. Мистер Каннинг осторожно достает из-под колокола голубку и с нежностью держит в ладонях. Близнецы, утирая слезы, но уже вполне утешившиеся, выходят из мрака, и мистер Каннинг вручает птицу Анн. Голубка, кажется, уже успокоилась, позабыв о своих страданиях. Раздаются аплодисменты, вносят еще свечи, а за ними появляются слуги с хрустальными графинами портвейна, кларета и бренди. Провозглашаются тосты.
— За будущее!
— За науки!
— За Ньютона!
Обойдя стол, мистер Каннинг приближается к Джеймсу.
— Ты очень хорош в новом костюме, мой милый мальчик. — Он расправляет ему край камзола, и в этом движении проскальзывает что-то материнское.
— Господа! Позвольте попросить у вас еще минуту вашего драгоценного внимания. Мне хотелось бы представить вам этого молодого человека — господина Джеймса Дайера, — который уже некоторое время проживает в моем доме. Надеюсь привести его весной в Лондон, где он будет официально мною представлен на одном из наших регулярных собраний.
Собравшиеся рассматривают мальчика, кое-кто слегка кивает с весьма добродушным видом. Подходят близнецы и становятся рядом. Каннинг, оказавшись сзади, кладет одну руку на плечо Джеймса, другую на плечо Анн и говорит:
— Вот моя семья. Они дороги мне, как собственные дети. Подойдите же. Полагаю, они уже в том возрасте, когда можно отведать по рюмке кларета.
Близнецы всем понравились. От кларета щеки у девочек порозовели, глаза блестят, отражая огоньки всех зажженных свечей, ноздри подрагивают. Господа, поглощая напитки в свое удовольствие, ведут себя с ними все более и более галантно. Похоже, им нравится своеобразное обаяние близнецов. Девочки благосклонно улыбаются Джеймсу. Манера мальчика держать себя делает его старше, сдержаннее. Если бы не богатый костюм, его можно было бы принять за сына квакеров. У некоторых господ он вызывает любопытство, мальчика осторожно выспрашивают, но скупость его ответов быстро утомляет. И, отвернувшись, гости обращаются либо к графинам, либо к близнецам, либо друг к другу. С Джеймсом остается лишь толстяк Бентли, с лягушачьей головой, сидящей на бородавчатой шее. Он задает самые разные вопросы: что мальчик ест, как обычно спит, каково его общее самочувствие. Но во время беседы его ногти крепко держат запястье Джеймса, вонзаясь в кожу до тех пор, пока на ней не появляются капли крови, пачкающие Джеймсу кружево новой рубашки.