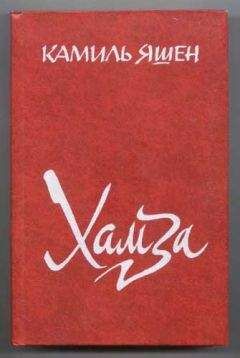Николай Энгельгардт - Павел I. Окровавленный трон
— Княжна, не прикажете ли бандуристу играть вальс! Он научился, — предлагали гвардейцы, стараясь обратить внимание фаворитки молодцеватостью осанки, изяществом мундира, очами и усами.
Княжна всем улыбалась, забыв свое горе.
Ее усадили за стол, где на больших подносах были навалены коврижки и пряничные коньки с сусальным золотом, каленые орехи, отварная в меду груша, грешневики на конопляном масле, варенный на меду мак и прочие деревенские лакомства, которые она любила гораздо больше великолепно украшенных конфет, присылаемых ей ежедневно от императорского стола.
Между тем Саша Рибопьер подошел к белокурой красавице, сидевшей у клавикордов, и пошептался с ней. Она заиграла аккомпанемент, и Рибопьер, не сводя очей с княжны, запел романс из недавно поставленной на придворной сцене оперы «Любовь Баярда». Слова и музыка романса, превосходно исполненного молодым человеком, как нельзя лучше соответствовали ее тайным думам.
Сладостное чувств томленье,
Огнь души, цепь из цветов!
Как твое нам вдохновенье
Восхитительно, любовь!
Нет блаженнее той части,
Как быть в плене милой власти,
Как взаимну цепь носить,
Быть любиму и любить.
Умножайся, пламень нежный,
Под железной латой сей;
Печатлейся, вид любезный,
В мыслях и душе моей!
Нет блаженнее той части,
Как быть в плене милой власти,
Как взаимну цепь носить,
Быть любиму и… любить.
Прекрасный голос молодого адъютанта звучал искренним чувством. Заслушалась княжна. Слеза прокатилась в ее огромных, черных, как ночь, глазах и канула с бархатных длинных ресниц. Вздох всколебал нежную грудь. Облако задумчивой грусти осенило молодое чело. Она шептала невольно вслед за певцом:
— Нет блаженнее той части, как быть в плене милой власти!
Но романс был спет. Притихшая молодежь опять зашумела, захохотала.
— Вальс! Вальс! — закричали все.
Рибопьер умолял княжну танцевать вальс.
Старый малоросс заиграл. Пары закружились. Но княжна не хотела танцевать.
— Я не могу сегодня, я не должна, — говорила она.
Но Рибопьер с такой очаровательной любезностью умолял ее, что она вздохнула, подняла очи к небу и положила обе ручки ему на плечи. Рибопьер по-модному охватил ее тонкую, гибкую талию, забывая строгое запрещение императора, находившего это крайне неприличным, и, держа княжну перед собой, так что они смотрели друг другу в глаза, понесся с ней в грациозном кружении по просторной, но довольно низкой и грязноватой зале долгоруковского дома.
Госпожа Жербер между тем подошла, к молодому дипломату, который в своем рыжем львином парике, в шелковых чулках, башмаках, в бархатной собольей шубке развалился на диване и кобенился, шепеляво рассказывая о парижских увеселениях белокурой даме. Она достаточно вольно села на ручку дивана и протянула руку по спинке, склоняясь к рассказчику.
— Зефир, — с досадой сказала госпожа Жербер, взяв за руку обладателя рыжего парика и таща к себе, — пойдем со мной танцевать!
А тот-то ломался на диване.
— Не пойду. Тогда пойду, когда вы мне выхлопочете камер-юнкерство.
А она хохотала и тащила все за руку. Вдруг дипломат случайно взглянул и остолбенел. Как ни был он близорук, однако с помощью лорнета увидел, что напротив у двери стоит государь и леденящим взором медузы смотрит на все происходящее в зале поверх ширм. Молодой человек обмер. Язык его отнялся. А белокурая дама продолжала висеть на ручке дивана, и госпожа Жербер повторяла, таща его за руку:
— Идите со мной танцевать, Зефир! Идите танцевать!
Вдруг медузина голова исчезла за ширмами. Речь и движение членов возвратились молодому человеку, он мгновенно вскочил и, растерянно бормоча: Pardon, pardon, mesdames! Mille pardons! — бросился вон с рыжим своим париком, лорнеткой, шубкой, башмаками, пробежал через гостиные, промчался по лестнице, прыгая через две ступеньки, отчаянно потребовал карету и ускакал домой, оставив обеих дам в полном недоумении, что с ним такое внезапно приключилось.
XVII. Тайна фаворитки
На другой день, явившись во дворец на дежурство, Саша Рибопьер с изумлением узнал, что император чуть свет подписал указ о пожаловании его камергером, что соответствовало чину генерал-майора.
Вспомнил он мудрого собирателя дворцового вина барона Николаи, не сомневаясь, что таким головокружительным чинопроизводством обязан не чему иному, как вчерашнему романсу. Он, однако, намекал княжне Анне о другом, именно о том, что хорошо бы вышло, пожалуй его государь в мальтийские командоры. Сказал же он так потому, что кругом себя только и слышал вздохи и пожелания:
— Эх, кабы меня пожаловали в мальтийские командоры!
Молодые люди, проигравшиеся на тайных сборищах (картежная игра строго была запрещена и, конечно, процветала тайно, являясь сладким запретным плодом), опустошившие карманы в кутежах и на красоток, повторяли:
— Эх, кабы меня пожаловали в мальтийские командоры!
Матери — сынкам, жены — мужьям тоже повторяли: «Старайся, чтобы тебя командором, наградили!» Десяти командорствам великого приорства российско-католического шли доходы с огромных польских выморочных имений князей Острожских. Новопожалованный камергер опечалился. Очевидно, его намерены пустить по дипломатической части, вообще, по статским делам. А ему тяжело было расставаться с военным мундиром и полковыми товарищами. Принимая их поздравления, камергер граф Рибопьер пригласил их на прощальную попойку, чтобы спрыснуть золотой ключ и шляпу с плюмажем. Рано утром того же дня граф Кутайсов прибыл к князю Лопухину с извещением, что его величество изволит с верховой прогулки пожаловать в дом его по важнейшему делу, не incognito, как всегда, но парадно и официально. Княжна Анна и ее родители должны ожидать государя в полной готовности, изрядясь, как то положено по этикету Граф Кутайсов не мог ничего сообщить о намерениях императора, но сказал только, что, возвратившись с ним во дворец, Павел Петрович всю ночь ходил взад и вперед по спальне, громко сморкаясь. Чуть свет позвал графа Ростопчина и передал ему приказ о назначении маленького Рибопьера камергером. Затем занимался делами и казался спокойным и довольным. Потом приказал ему, Кутайсову, ехать предупредить о посещении Лопухиных.
Не смыкая глаз провели ночь и князь Лопухин с княгиней, изнывая в смертном страхе. Только по отбытии государя постигла княгиня, какую бездну изрыла она под собою, мужем, всей родней своей, а также и под Долгоруковыми. Когда Павел Петрович, не замеченный увлеченною танцами молодежью, пошел обратно церемониальным шагом, полный свирепым гневом, тяжело дыша и пыхтя, княгиня кинулась было светить ему шандалом, прыгавшим в трепещущих руках ее.
— Взять у нее шандал! — вдруг сиплым, неистовым шепотом приказал Павел.
Кутайсов выхватил шандал у княгини, которая, как сноп, повалилась к ногам государя.
В большом покое совсем терялся свет одной нагоревшей сальной свечи, и углы, неизмеримо высокий потолок — все было погружено во мрак. Причудливые тени падали от действующих лиц этой зловещей сцены и шевелились. Заглушенные звуки вальса доносились из маленькой двери, плотно завешенной гобеленом.
Павел с презрением смотрел на валявшуюся у ног его Лопухину.
— Вы так воспитываете свою дочь! — вдруг разнесся его страшный, сиплый, неистовый шепот. Пляска, непристойность, распутство… Покровительство распущенности нравов… Я вам этого не прощу… я вам покажу… ослушание моим повелениям. Дерзкое неуважение к особе, взысканной моими милостями… Высшее неприличие… свинство… гадость… гнусность. Мальчишка, ухватя за талию, вертится. Смотрит прямо в глаза… Не позволю… не позволю., истреблю… Сошлю туда, куда ворон костей не заносит! В рудники!.. Сквозь строй… На виселицу… О, подлая тварь!..
Эти отрывистые страшные слова вылетали как бы непроизвольно из сжатого горла государя, но он не кричал, он шептал, очевидно, опасаясь, что будет услышан виновницей его гнева, продолжавшей беззаботно носиться под дерзкие звуки вальса. Кутайсов стоял со свечой, опустив глаза и смотрел в пол, зная, что в таких случаях посмотреть в лицо государю значило возбудить еще пущий гнев его. Павел Петрович почитал это дерзостью.
Княгиня валялась в ногах у императора и стонала.
— Помилуй, государь, помилуй!
— Княгиней сделал… Завтра будешь свиней пасти… Сводня… — проскрежетал Павел Петрович, произнес еще раз ряд площадных, безобразных ругательств и, вдруг, повернувшись налево кругом, скорым шагом пошел прочь. Кутайсов бросился за ним, еле поспевая. Он светил, прикрывая пламя рукой.
Очнувшись в темноте, поднялась княгиня и охая поплелась шатаясь к мужу.