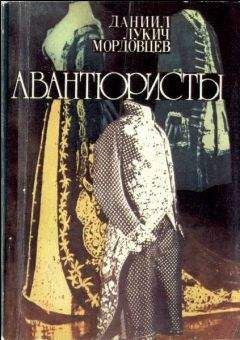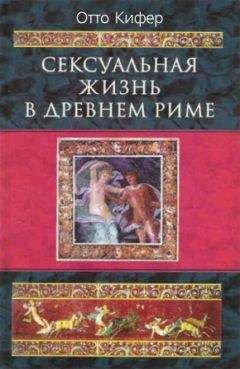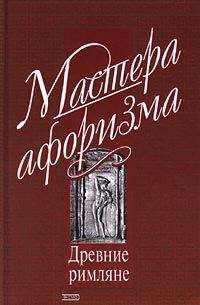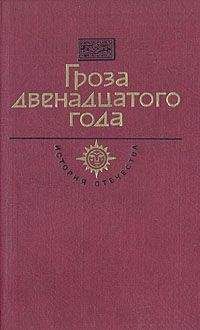Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
И вспоминает он, как вдруг запылали эти степи: ад кромешный кругом, и в этом аду должно двигаться войско… Ни травы, ни кормов, ни водопоев…
— Ну и поворотили назад со срамом, эх, незадача моя!
Говорили, что это татары зажгли степь. А другие подозревали, что это велел поджечь ее Самойлович. И Самойлович пропал. Вместо него выбрали гетманом хитрого Мазепу.
И вот, через два года, Голицын и Мазепа опять двинулись в беспредельное море ногайской пустыни почти с двухсоттысячным войском. Татары не успели выжечь степей. Зато, подобно саранче, обсыпали со всех сторон и московское и казацкое войско, налетают то в тыл, то по бокам, врываются даже в обоз, но все напрасно: войска двигались все дальше, дальше… У Черной Могилы они очутились лицом к лицу с войском самого хана. Схватка была жаркая; немало пало татар: убит сын хана, убит сын перекопского бея… Татары с гиком отступили, побросав своих убитых и раненых. Но, отскочив в сторону, они налетели на казацкие полки и отомстили за Черную Могилу. На другой день опять показались орды самого хана, но, встреченные огнем картечи, дрогнули и, обогнув по крылам в тыл, забрали там своих убитых и все время лезли в глаза, как осы, а их все угощали картечью…
Об этом-то и писал Голицын царевне Софье, и на это-то она отвечала ему страстным письмом, которое рассердило его… «Победил агаряны!..»
— Да, связала меня нелегкая с этой девкой… Скоро ей быть черничкой, а мне под топором…
Он невольно вздрогнул… Перед ним стоял Мазепа. По обыкновению он вошел неслышными шагами, как кошка, и теперь стоял перед воеводою со своим ласковым, но постоянно загадочным взглядом. Голицын, по-видимому, не рад был этому приходу.
— Я не помешал тебе, боярин? — спросил он, всматриваясь в озабоченное лицо князя.
— Нет, гетман, я ждал тебя.
— А я малость замешкался: уряды распределял по полкам, как нам наутрее потребу чинить над городом. Ведомости, я слышал, с Москвы присланы?
— Да, точно, гонец пригнал.
— А какие указы будут в силу ведомостей?
— Указали великие государи объявить нам милость свою за стенные бои с татарами..
Лицо Мазепы просияло. Он совсем не хотел этого похода, зная все его трудности. Притом по отношению к Малороссии у него в голове сидели свои планы, которых он никому бы не доверил, а тем менее москалям. В его план меньше всего входило желание, чтобы «москва»[5] укрепилась на юге, особенно же в Крыму: весь юг и берега южных морей должны принадлежать Украине. А то если «москва» запустит лапу в Крым, так Украина должна превратиться в простую проезжую дорогу, в чумацкий шлях для москалей: кому же приятно, чтобы через его хату шла проезжая дорога!.. Эту тайную боязнь носил в душе своей и предшественник Мазепы, гетман Самойлович, да боязнь эта и довела его до Сибири… Самойлович боялся успехов «москвы» в первый крымский поход Голицына, и оттого запылали ногайские степи… Самойлович поторопился, обнаружил свои карты и вот теперь свистит в кулак в Сибири… А к Ивану Степановичу Мазепе сам черт не заглянет в карты… В душе он проклинал Москву, зубами скрипел, готовясь в поход с Голицыным, чуть булавою не раздробил стола, на котором лежала московская грамота; а между тем вывел свое войско в поле, встретил Голицына с торжеством, называл его «благодетелем», а в уме посылал в его душу «стонадцять коп чертей…»
Оттого, когда во время движения войск степью налетали на них татары, Мазепа, хотя с болью в душе и с чертями на языке, громил их из своих «гармат», только бы довести «дурного москаля» до Перекопа… а там «куц выграв, куц програв»…
До Перекопа они дошли. С ним не случилось того, что с Самойловичем, мало того, «великие государи», которых еще надо с ложки кашей кормить, объявляют свою милость…
— А как ты мыслишь, пан гетман, добудем мы Перекопь эту? — спросил его Голицын в раздумье.
— Добыть-то добудем… Мудрое слово когда-то сказал старый Хмельницкий, — отвечал Мазепа как-то двусмысленно.
— А какое слово он сказал? — любопытствовал князь.
— А такое, боярин: manu facta — manu dilabuntur…
— Да, да, мудро: «Рукою содеянное, рукою разрушается…» Истинно мудрая речь.
— Это сказал Хмельницкий, когда еще был только Чигиринским сотником, коронному гетману Конецпольскому, когда пан похвалялся перед казаками новою крепостью, Кодаком.
— Да, помню, — сказал Голицын, — только, кажись, он не так сказал.
— Именно так, боярин, — подтверждал Мазепа.
— Что-то, кажись, маленько не так.
Голицын встал и, пройдя в другой конец своей обширной палатки, принес какую-то книгу и положил на стол.
— Посмотрим, посмотрим… Кажись, мне память еще не изменяет.
Он начал перелистывать книгу. Книга была латинская, Мазепа видел это и с немалым удивлением следил за движениями рук Голицына и за всей его массивной фигурой, которую, казалось, непривычно было видеть над книгой, да еще латинской.
— Вот, сыскал, — сказал Голицын, — ну, пан гетман, моя правда.
Мазепа тоже нагнулся над книгой. Видимо, он был озадачен.
— Вот смотри, пан гетман… Хмельницкий отвечал Конецпольскому: manu facta — manu destruo. (Рукою созданное — рукою разрушаю.)
— Правда, правда…
Мазепа не мог прийти в себя от изумления… «Ай да москаль!» — чесалось у него на языке.
— А какая это книга, боярин? — спросил он.
— Вот, читай…
И боярин показал своему собеседнику обложку книги. Мазепа прочел:
— Вон оно что: Annalium Poloniae ab obitu Vladislavi quarti Climacteres scriptore Vespasiano a Kochovo Kochowski…[6] точно, точно… Я этой книги еще не видел… А как, боярин, ты добыл эту летопись?
— Мне из Кракова ее прислали, — отвечал Голицын, — она там печатана… Мне сказывали, что и вторая часть уже окончена тиснением, а эта напечатана еще в 1683 году.
«Ах, чертов москаль!.. Вон какие медведи у них водятся!..» — Хотя Мазепа знал, что Голицын считается одним из умных и образованных москалей, однако он считал это образование просто знакомство со священным писанием… А тут на! И его, Мазепу, за пояс заткнул своею ученостью.
— Так как же ты, пан гетман, полагаешь: добудем мы Перекопь эту али нет? — спросил Голицын, помолчав.
— Manu facta — manu destruo, — с улыбкой отвечал Мазепа, — только что ж мы, боярин, с этим каменным мешком делать будем?
— С Перекопью-то?
— Да, боярин.
— А что? Затем и шли, чтобы добыть ее.
— Оно так… А что ж напоследок? Тебе, ведомо, боярин, что Finis coronat opus… (Конец венчает дело.) Чем же венчается конец нашего дела? Мешок каменный мешком и останется: в Москву его мы не повезем, да и нам в мешке сидеть будет безо всякого профиту… Ведь Перекоп не Крым: до Крыма еще ай как далеко! Я, боярин, бывал в Крыму, знаю его. За Перекопом такая же степь, какую мы осилили, только ту нам не осилить.
— А Бог на что, да наши рати?
— То-то, боярин, в безводной степи и Бог не спасет наших ратей!.. Вон уж и теперь большая нужда в воде. А за Перекопом степь хуже каменной Аравии, ни кормов, ни водопоев нет.
— А как же сами татары переходят степь эту? — спросил Голицын.
— А им способнее, боярин: они переходят степь либо о дву-конь, либо верблюдами, и корма с собой везут.
— А водопои как же у них: ноли и колодцев нету?
— Колодцы есть, токмо самая малость… А в тот час, как войдем в Крым, бусурманы засыплют все колодцы, либо еще хуже, отравы в них положат.
Голицын молчал. В его смущенную душу заползал суеверный страх. Недаром в день его выступления в этот второй крымский поход, утром, у ворот его дома был найден гроб, а в гробу записка: «Не добудешь Крыма, добудешь гроб». Сегодня у него особенно было тяжело на душе. Ему хотелось забыться, позабыть все… Он все к чему-то прислушивался, чего-то ждал…
— Не выйти ли нам на аэр подышать? — сказал он Мазепе. — Голова у меня отягчена что-то ноне.
— Что ж, боярин, выйдем: оно ж и вправду душно.
Они вышли из палатки, пошли к морю. Ночь была темная, тихая, и тем ярче сверкали в неведомой вышине звезды весеннего южного неба. Московский и казацкий стан раскинулся на огромное расстояние, от берега Черного моря до низменного, поросшего камышами берега Гнилого моря, или Сиваша. Во многих местах мигали догоравшие костры. В камышах и в степи раздавались концерты весенних птиц: то бил свою весеннюю песню коростель, то перепел глухо стучал где-то в степи; протяжные, однообразные стоны «бугая», водяной выпи, заглушались немолчным говором лягушек. Издали темнели изломы какого-то огромного безобразного здания, это был Перекоп, его укрепленные башни «кули». Оттуда доносился иногда протяжный лай собак, да по временам слышен был крик петуха, рев верблюда… Какой чужой казалась для Голицына эта южная ночь!.. Как она не похожа на прозрачные, белесоватые весенние ночи его родной Москвы, которая, казалось, была так далеко, что не чаялось и возврата в нее… Сонное море тихо плескалось у берегов, а вдали, точно на небосклоне, мигали огоньки, словно звезды: это стояли в море турецкие кочермы да галеры с невольниками, в Козлов да в Кафу, вероятно, направляются, к невольничьим рынкам.