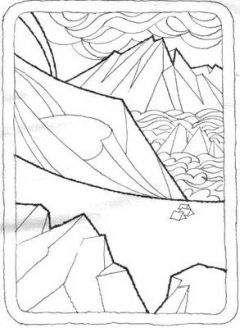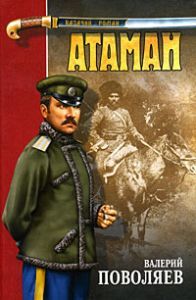Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
У цыгана вместо выстрела раздалось пустое щелканье — отсырел патрон. Пока он дергал затвор, пока загонял в ствол новый заряд, Калмыков постарался навсегда утихомирить шустрого немца: шашка оказалась надежнее винтовки.
Вскоре полк карабинеров побежал…
На место геройски погибшего подхорунжего Калмыков назначил вахмистра Шевченко. Не хотелось, конечно, этого неприятного человека назначать на командную должность, но других кандидатур у Калмыкова не было. Можно, конечно, назначить вахмистра Саломахина, но тогда Калмыков сам оставался без прикрытия, чего допускать было никак нельзя. Поэтому он подозвал к себе вахмистра Шевченко и, глядя в сторону, проговорил хмуро, хриплым фальцетом:
— Принимай сотню… Временно.
В ответ вахмистр вздохнул:
— Спасибо, господин хорунжий… Доверие постараюсь оправдать.
Калмыкову ответ не понравился, но он промолчал, погрузился в свои невеселые мысли, зашевелил губами, высчитывая что-то… Потом вновь велел позвать вахмистра Шевченко. Тот подъехал на коне, глянул вопросительно.
— Подхорунжий погиб, но задания своего не выполнил, — прежним хриплым фальцетом произнес Калмыков, подвигал из стороны в сторону челюстью, — отбил у немцев не все пушки… А надо было отбить все. Твоя задача, Гавриил Матвеевич, отбить последнюю пушку.
— Попробую, конечно… — помрачневшим тоном произнес вахмистр, — только если ради одной пушчонки потребуется положить людей, я их класть не буду, господин хорунжий… Людей я привык беречь.
— Это приказ, вахмистр, а приказы командиров не обсуждаются. — Калмыков сцепил зубы, желваки у него на щеках отвердели, стали каменными.
— Это смотря с какой точки посмотреть, — твердо проговорил Шевченко и отвернул коня от Калмыкова.
Хорунжий сцепил зубы сильнее, скрипнул — не нравился ему Шевченко, но поделать с полным георгиевским кавалером он ничего не мог, поднять на него руку опасался — за это дело можно загреметь под офицерский суд, а это крайне нежелательно…
Калмыков трепал полк карабинеров до позднего вечера, до темноты, не пропускал его в Лелайцы, — и так и не пропустил.
Шевченко дважды пробовал отбить последнюю пушку у карабинеров, но безуспешно — немцы усилили охрану и всякий раз сотня натыкалась на яростный огонь. Вахмистр дал команду отступить — берег людей. Тем более, в сотне было двое его земляков-одностаничников. Если пуля зацепит кого-нибудь из них, как же он потом в станице будет отчитываться?
Вечером, уже в сумерках, когда Калмыков прискакал из штаба полка, Шевченко подошел к нему, вскинул руку к козырьку выгоревшей фуражки:
— Приказание ваше, господин хорунжий, выполнить не сумел… Извините!
Калмыков привычно стиснул челюсти и, скрипнув зубами, выдохнул с горячим свистом:
— Сволочь!
Шевченко сжал губы в узкие жесткие щелки, поиграл желваками.
— Смотри, хорунжий, оскорблять себя не позволю и не посмотрю, что ты офицер — гвоздану кулаком меж глаз так, что только огонь в разные стороны полетит!
Хорунжий стиснул кулаки, нагнул низко голову, — подбородком едва не коснулся живота, сделал несколько неровных напряженных шагов. Выставил перед собой кулаки. Вначале ударил левой рукой — сделал это стремительно, резко, с шумом выбив из себя воздух, Шевченко едва успел отскочить в сторону, — потом на громком выдохе послал в вахмистра второй кулак.
Шевченко на этот раз отскочить не успел, кулак хорунжего всадился ему под ребра, и вахмистр задавленно вскрикнул — было больно. Калмыков вновь взмахнул руками и сделал два кривых коротких шажка.
Вахмистр мотнул головой и пошел с Калмыковым на сближение.
— Сука ты… — прохрипел Калмыков, зло блестя глазами, — хотя и георгиевский кавалер. — Сука! Твои кресты тебя не спасут — пойдешь под суд.
— Тебя, хорунжий, твои погоны тоже не спасут, — пообещал Шевченко, сделал ложный замах левой рукой, отвлек внимание Калмыкова. Тот потянулся всем телом за кулаком, стараясь перехватить его, и открыл свой бок, а удар по боку бывает очень болезненным, это удар по печенке. Шевченко не раз ощущал его на себе, — в следующее мгновение вахмистр всадил кулак в бок хорунжего.
У Калмыкова внутри громко хлобыстнулась селезенка, удар был сильный, клацнули зубы; на небольшом, покрытом капельками пота лбу, образовалась лесенка морщин, словно бы кожа на лице собралась в гармошку.
— Ты-ы-ы… — яростно захрипел Калмыков, в следующий миг споткнулся, сглотнул что-то твердое, будто в горло ему попал камень, не проглотив который он не то что говорить, даже ходить не мог. Шевченко хотел еще раз опечатать его кулаком, но вместо этого на два шага отступил назад.
Проговорил насмешливо:
— Я! Ну и что?
— Ты под суд пойдешь, — наконец выдавил из себя Калмыков, — военно-полевой.
— Так уж сразу и под суд, — издевательски произнес Шевченко, — под военно-полевой… Пфу!
— Ты ударил офицера.
— А ты — полного георгиевского кавалера. За это по головке не гладят даже фельдмаршалов, не говоря уже о каких-то козявках с двумя звездочками при одном просвете.
— Псы-ы-ы, — просипел Калмыков яростно, — берегись, Гаврила… Я этого дела не спущу.
— И я не спущу.
— Я тебе пулю в затылок всажу. Понял?
— Понял. Только знай: я в долгу не останусь.
— Псы-ы-ы-ы…
Хорунжий неровной походкой, цепляясь одной ногой за другую и по-мальчишески схлебывая с губ пот, отошел в сторону, взглянул на вахмистра с такой яростью, что тот ощутил физическую боль, словно бы от удара, — подхватил за повод своего коня, устало и непонимающе поглядывавшего на людей, — и двинулся от вахмистра прочь.
Вот и стали однополчане заклятыми врагами… Теперь в бою спину не подставляй. Шевченко горько скривил рот — а ведь этот тип с фигурой недозрелого мальчишки теперь вряд ли оставит его в покое — будет преследовать. И не успокоится, пока не убьет его — такой нрав у тщедушного низкорослого хорунжего. Слышал Шевченко, что хорунжий в свое время окончил семинарию и готовился к иной деятельности, совсем не офицерской, но кривая жизненная дорожка вывела его на нынешний рубеж. Жаль, что другого места она не могла сыскать. Лучше бы оставался господин Калмыков попиком. Но нет — принесло михрютку в армию.
Покачав удрученно головой, Шевченко посмотрел на кулак — два мослака он ободрал себе до крови, — выругался неожиданно озабоченно. Хуже нет свары со своими. Уж лучше пятьдесят, сто, сто пятьдесят стычек с врагом, чем одна со своими… Он слизнул кровь с мослаков и отправился в четвертную сотню.
Самое правильное было бы — перевестись в другую сотню, но как Шевченко объяснит это начальству?
Объяснений не было.
Впрочем, семнадцатого сентября Калмыков был ранен, попал в госпиталь, а когда покинул палаты с белыми простынями, то сотней уже командовал другой человек. Хорунжий был назначен на должность начальника пулеметной команды.
Двенадцатого декабря 1915 года перед строем казаков в лохматых папахах был зачитан приказ № 1290 по войску, в котором было объявлено, что хорунжий Калмыков произведен в сотники «за выслугу лет, со старшинством с 6 августа 1915 года».
Сотник в кавалерии — это то же самое, что поручик в пехоте. По-нашенски, старший лейтенант.
Прошло полтора года.
Если на Кавказе, на Тереке, где раньше жил Калмыков, станицы обязательно звали станицами — это было устоявшееся, твердое, отличающее казаков и их поселения от прочего люда, от богатых городских мешан, от чопорного купечества, любившего смазывать кудрявые локоны лампадным маслом, от мрачных работяг, чинивших в депо паровозы, и гнилой «интеллигенции» — разных там учителей, землемеров и фельдшеров, — то на Дальнем Востоке слово «станица» обратилось в понятие.
Все понимали, знали, что такое станица, только слово это употребляли в речи не всегда. Точнее, очень редко.
Здешнему казачьему люду было гораздо привычнее слово «станция» или, скажем, такие слова, как «село», «поселок», «город», «деревня», «выселки» — что угодно, только не «станица».