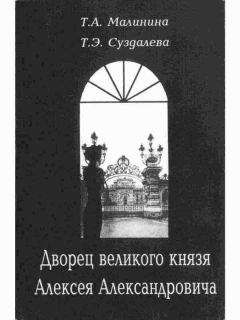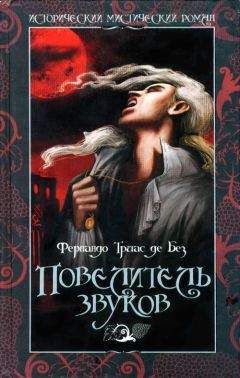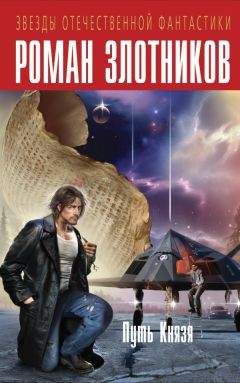Фернандо Триас де Без - Повелитель звуков
21
Господин директор бережно взял меня за руку и подвел к мраморному столу, возвышавшемуся посреди павильона. Я не сопротивлялся: меня мутило от одной мысли о том, что мне предстоит испытать, но воля моя была сломлена.
– Мы сделаем все, как полагается. Правильно. Потому что если мы просто лишим тебя гениталий, то можем испортить твой голос. Ты же не хочешь, чтобы публика передразнивала тебя куриным квохтаньем?
В этот момент раздались шаги: в павильон вошел Красавчик Франц. Он нес ведро, из которого валил пар. На поясе у горбуна висел матерчатый чехол. Из чехла торчали инструменты его страшного ремесла: ножницы, клещи, ножи и маленькая пила.
– Вам не будет больно, Людвиг: я влил в вас добрую дозу опия. Кроме того, Франц долгое время был военным хирургом, пока его больница не сгорела. Он проследит, чтобы вы не потеряли много крови и чтобы рана не загноилась. Я знаю, с первого взгляда он кажется монстром, но он очень тактичен. О да, у него есть такт. Не бойтесь. Доверьтесь ему, дражайший Людвиг, доверьтесь ему.
Красавчик Франц поставил ведро на пол и наполнил из него сосуд с широким днищем. Потом он приблизился ко мне, они вместе повалили меня на алтарь, спустили с меня брюки и задрали рубашку. Сквозь белую льняную скатерть холод камня был почти неощутим. Мне хотелось вырваться и убежать, но я не мог: мышцы свело болезненной судорогой. Франц обмотал мне бедра куском холста, взял полотенце и скрутил его в рулон. Этот рулон он подложил под ягодицы. Мое тело выгнулось, и яички поднялись вверх.
– Нет, нет, я не хочу… – прошептал я.
Емкость с водой Красавчик Франц поставил между бедрами так, что яички окунулись в обжигающую жидкость. Я вздрогнул, но мгновенно напряжение в промежности спало, мошонка опустилась на дно сосуда. Господин директор отошел в сторону, а я лежал на алтаре и глядел в потолок. Ветви деревьев сомкнулись над стеклянным куполом, скрывая от посторонних глаз мой позор и бесчестье.
– Нет… нет… – повторил я.
Пока мошонка намокала, Красавчик Франц склонился надо мной. В опиумном бреду его шрамы и увечья расплылись и казались еще ужаснее. Глаз без века приблизился к моему лицу. Франц погладил мою шею и шершавыми пальцами сильно нажал на сонную артерию, видимо собираясь усыпить. Им не хотелось привязывать меня к алтарю.
Но его действие возымело противоположный эффект: последние остатки опиумного морока рассеялись, я проснулся. Это неожиданное пробуждение придало мне сил. Я начал брыкаться.
– Ремни, давай ремни, – вскричал господин директор.
Вдвоем они навалились на меня и связали по рукам и ногам, распластав на алтаре. Красавчик Франц опустил руку в мою промежность и потрогал мошонку, чтобы убедиться, что она достаточно прогрелась. Он перевел взгляд на господина директора, тот кивнул. Я же вновь взглянул на ангелов, окружавших меня, увидел их белые мраморные глаза. Я не хотел лишиться мужского естества, отец.
Но это было не самое страшное – я почувствовал, что могу потерять свой дар, дар, ниспосланный мне Всевышним. Вырезав мне яички, злодеи навсегда лишили бы меня способности повелевать звуками. Я не мог объяснить это, но я знал, что мой дар и мужская сила составляют одно неразрывное целое. Как можно смириться с тем, что тебя лишают самого дорогого, что есть в твоей жизни?
И когда по глазам полоснул блеск отточенной стали, я понял, что мой час настал. Вот уже Красавчик Франц поднес ножницы к моей промежности. Еще миг – и все будет кончено! И тогда я использовал всю свою власть. Я закрыл глаза, как делал это не раз, когда был маленьким, и, разбив хрупкий лед окружавшей меня реальности, ушел с головой в мир звуков. В этот миг я услышал дыхание повивальной бабки, вытащившей меня из материнского чрева, цокот лошадиных копыт по камням Йозефшпитальштрассе, вой ветра, журчание вод, величавое пение деревьев в баварских лесах, голоса моих родителей. Я услышал смерть дедушки Клауса, бой сотен колоколов в мюнхенских звонницах. Я услышал, как бьется мое сердце, как струится по венам кровь, как с каждым вздохом вздымается грудь. Я услышал всего себя. И среди этих звуков я внезапно услышал еще один – самый совершенный, прекраснее любого адажио или анданте, звук звуков.
Говорю вам, отец, в этот миг я услышал звук, который столько лет оставался для меня тайной. Звук, который я тщетно пытался найти в разделении и смешении других звуков. Он был само совершенство! Ни один мужчина, ни одна женщина не смогли бы устоять перед ним. Воистину то был звук любви, вдохновившей меня на пение в ту достопамятную ночь, проведенную на черепичной крыше.
И где бы я ни бродил: в полях, в лесах, по берегам рек, на городских улицах, – я не нашел бы его, даже если бы мне пришлось обойти всю землю. Он составлял часть моего естества. До поры до времени дивный звук дремал во мне, а теперь пробудился. Я обрел его, когда передо мной разверзлась пропасть отчаяния.
Услышав раз, я мог повторить его, не будь я Людвиг Шмидт фон Карлсбург, повелитель тысяч и тысяч звуков, собранных за неполных одиннадцать лет. Я собрался с последними силами… и запел.
Время замедлило свой бег. Горбун, склонившийся надо мной с ножницами в руках, застыл, словно каменное изваяние. При свете газовых ламп было видно, как побледнело лицо господина директора, как блестят на его лбу бисеринки пота. Из моих уст полился дивный напев – мелодия жизни. Она пьянила, завораживала, множеством тонких эфирных нитей опутывала рассудок.
Невозможно передать весь ужас, который так явственно читался в тот миг в глазах господина директора. Ничего более совершенного он еще не слышал. Звук любви проник в его слух, напоил его тело смертоносным ядом, сокрушил его волю.
Вот он нежно улыбнулся…
Тихо взор открыл прекрасный…
О, взгляните! Видно вам?
Все светлее он сияет,
Ввысь летит в мерцанье звезд…
Видно вам?
В сердце гордом сколько жизни!
Полным счастьем грудь трепещет,
И дыханье, чуть дрожа, кротко веет на устах…
Тише… Смотрите!.. Иль не ясно вам?
Иль одна должна я слышать этой песни чудной звуки –
Плач блаженства, все сказавший,–
песню мира, голос друга,
Лаской дивной вдаль манящий
и меня с собой вознесший?
Звуки всюду плещут, тают…
То зефиров тихих волны?
Или слезы туч ароматных?
Нарастают сонмы звуков…
Мне вздыхать ли или слушать, упиваться.
Вглубь спуститься иль с эфиром слиться сладко?..
В нарастании волн, в этой песне стихий,
в беспредельном дыханье миров –
Растаять, исчезнуть, все забыть…
О, восторг!!!
– Нет! Нет! – вскричал господин директор и рухнул на колени, зажав уши руками. Но тщетно.
Мне назначен, мной потерян…
Как могуч он, робко смелый!
Смерть в очах твоих!
Смерть и в сердце гордом!
Красавчик Франц перевел недоуменный взгляд на господина директора и опустил руку с ножницами. Горбун был глухонемым, так что мое пение на него не действовало. А я продолжал петь и не мог остановиться. Мой мучитель пал ниц. Своим пением я подчинил его, поработил его волю. И пусть мое тело опутывали ремни и я не мог подняться, он был в моей власти.
Поймав полный растерянности взгляд господина директора, Франц отложил инструменты в сторону, подбежал к нему и помог подняться. Он ничего не понимал, из его утробы вырывалось жалкое урчание.
Наконец, я прекратил петь. Не было смысла продолжать – моя власть была абсолютной.
– Проклятый ублюдок, – простонал господин директор. В его голосе страх смешался с отчаянием. – Мы опоздали! Как я мог не заметить? Как я мог быть таким глупцом? Боже милосердный, за что ты покарал меня? Почему я потерпел поражение?
Он взывал к небесам, выкрикивая заклятия на каких‑то мертвых наречиях, которых я не знал. Красавчик Франц замер у него за спиной, испуганный, растерянный, недоумевающий, ноющий, словно раненое животное.
– Развяжи его, Франц, пусть он уходит… Мы опоздали… Он овладел мной… – Сказав это, он погладил меня по щеке, как возлюбленного. – Боже мой!.. Что со мной будет? – Это было последнее, что смог вымолвить ошеломленный директор.
Потом он сам, как покорный раб, расстегнул кожаные ремни, привязывавшие меня к алтарю, и в слезах бросился прочь из павильона. Вскоре его силуэт растаял в ночной чаще. Красавчик Франц, прихрамывая, побежал вслед за ним. А я, Людвиг Шмидт фон Карлсбург, поднялся на ноги, глубоко вдохнул и почувствовал, что смерть отступилась от меня. Я был художником, который нанес последний мазок и теперь, отойдя на несколько шагов назад, любовался картиной. Мои поиски закончились, я собрал все звуки мира. И тогда, гордый собой, я воздел руки к небу, и с моих уст сорвался ужасный крик – крик божества.
Из письма Рихарда Вагнера Францу Листу – мысли о работе Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление»