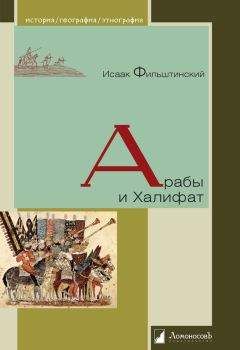Шмелёв Петрович - Сильвестр
— А если не одолею, поп? Что тогда? Боюсь я, отче Сильвестр. Не верю я в войско своё, не верю я воеводам моим. Не верю я в счастие Русской земли — триста лет над нею татарская плеть…
— Должен верить, царь! Должен! Это я тебе говорю, наставник духовный твой. Из ночи в ночь посещает меня теперь ангел Господень, и из ночи в ночь твердит он одно и то же: «Пора! Пора государю твоему подниматься! Пора ополчиться ему вместе со всею землёю Русской на безбожных агарян. Настал его час! И благословение Божье — на нём…»
Ах, тяжка, горька доля царская! И нет ему, властелину державному, ни воли, ни покоя ни в чём. Слушай того, слушай этого, того уважь, этого пригрей, а с тем помирись, а с тем не бранись, а этого про запас береги — может, пригодится когда потом… А проснёшься утром — и пальцем пошевелить не смей, даром что царь! Не смей, не моги, потому как за каждый палец, за каждый волосок на голове твоей ухватилось множество цепких рук, и каждый держит, не пускает, и каждый тянет к себе… Самодержец! Какой он самодержец… Истинно холоп холопей своих! И вертят они им, как хотят. И поп вертит, и Макарий- митрополит вертит, и Дума ближняя противится, и Собор упрямится. А там ещё и вся земля: и воеводы, и приказные люди, и чёрный народ! И все норовят жить самовластно, по воле и скудному разуму своему, будто и нет над ними ни Бога, ни царя, ни заботы государственной, а есть лишь своя нужда да ближняя корысть. Одно ему, сироте, спасение! Одно прибежище душе его измученной, истерзанной — царица его. Настенька, Настенька, свет мой, голубка моя, ангел мой и утешение моё! Только тебе и можно голову положить на колени, только ты и поймёшь, и пожалеешь, и укрепишь меня, убогого, в тоске и изнеможении моём…
Тяжка, горька доля царская! Но не легче и доля духовного наставника его. Слишком высоко вознёсся поп! Слишком многое на себя взял! И чем выше вознёсся он, тем страшнее будет падение его. Много их было, таких, как он, и в древних царствах библейских, и в Риме, и в Византии, да и в Русской земле. Много их было, безродных баловней удачи, вершителей судеб людских, — а где и как кончали они свои дни? Хорошо, если в опале да в ссылке. Но чаще всего иной им был конец — под топором либо в петле. Скоро, скоро подрастёт твой питомец, отче Сильвестр! Скоро встанет он на ноги свои — и страшной будет поступь его! И тогда помогай тебе Бог, поп… А сколько ещё не сделано в Русской земле! Сколько ещё даже и не начато! Сколько ещё замыслов благих и мыслей светлых у него в голове. И всё то на пользу державе Российской! И всё то прахом пойдёт в тот же самый день, как прогонит его царь… А что он, духовный наставник царский, Богу потом скажет? Как оправдается он перед Ним в бессилии и неумении своём? В том, что так и не сумел он, жалкий поп, распорядиться той властию духовной над царём, что даровал ему Господь?
Ах, зачем, зачем его во всё это занесло? Нет — домой! Скорее домой, к домашним своим, к молитве вечерней, в ту крохотную комнатеночку, к книгам и писаниям его… Скорее домой! Ибо только там, дома, в тишине, среди родных и близких, и может он, усталый пленник судьбы своей, набраться сил и крепости душевной, чтобы и дальше безропотно нести тот крест, что жизнь взвалила на него…
Бежал, колыхался поповский возок по московским ухабам, то пропадая в сугробах, то вновь выныривая на Божий свет. Скользили и разъезжались полозья его по укатанной санной колее, поскрипывала на морозе тугая упряжь, отфыркивалась, тряся и мотая кудлатой головой, заиндевелая лошадка, соскучившаяся долгим ожиданием там, под царёвым крыльцом. Москва уже спала. И за Неглинной, и в Чертолье, и в глухих извилистых переулках близ Зачатьевского монастыря все ворота были на запоре. И лишь редкий стук колотушки, да собачий лай, да мерцающий слабенький огонёк где-нибудь в оконце под самой крышей говорили о том, что и в этом безмолвии тоже таилась и теплилась какая-то своя, спрятанная от посторонних глаз и не известная никому жизнь.
Полно, да так ли уж и неизвестна была она, эта жизнь? Тем более ему, кому пришлось на своём веку стольких исповедовать, стольких утешать, стольким отпускать их грехи в их последний час… Всегда и везде и во всякие времена жили люди так, как живут они и сейчас там, за этими заборами и наглухо закрытыми ставнями: в болезнях, и трудах, и скорбях, не зная и не понимая ничего от рождения своего и до гробовой доски. И почему так трудна, так бестолкова и безысходна их жизнь — спрашивать надо не у них. А у Того, кто создал этот мир.
А как о том спросишь у Него? И как достучаться, докричаться до Него, чтобы Он услышал тебя?
Глава VI СВЯТАЯ ЛОЖЬ
Как ни хотелось любимцу царскому Алексею Фёдоровичу Адашеву избежать шума и торжеств по случаю рождения первенца своего, а не удалось. И с отцом Сильвестром сговорился, чтобы крестить наследника не в Кремле, а в маленькой домовой церкви в усадьбе Адашевых на Арбате. И в восприемниках просил быть брата своего Данилу и тихую, робкую жену его, что сама лишь недавно родила, тоже сына. И гостей решено было не звать, отпраздновать сей день лишь в кругу домашних своих, по-семейному, без всяких пышностей и затей.
Да прознали про то царь и благоверная царица его Анастасия Романовна! И вот уже торжественно несут слуги царские в дом Адашевых серебряную купель — дар царя новорождённому крестнику своему, а за ней ларец с ожерельем дивного жемчуга заморского — дар матери его, а за ним короб лубяной, а в нём сорок соболей — то отцу младенца, а за ними и иной всякой рухляди великое множество — то поминки царя окольничему своему Фёдору Адашеву, и сыну его Даниле, и всей Адашевой родне.
И вот уже бежит, толкается, суетится по двору дворцовый служилый люд, расстилая по снегу от самых от тесовых ворот до высокого крыльца шемаханские ковры, чтобы проложить дорогу царственной чете. И вот уже стучат ножи булатные в поварне и мечутся слуги, и ключники, и иные прочие домочадцы по всему дому Адашевых, готовя пиршественный стол, и душа у них обмирает от страха, и гордятся они честию великою, коей удостоил царь — государь московский верного слугу своего и его семью. И уже перекрыла суровая стража царская все пути и проезды на Арбат и на Сивцев Вражек, и уже стоят по всем углам и закоулкам и на самой усадьбе Адашевых государевы стрельцы — кто с пищалью, кто с бердышом, а кто и во всеоружии на коне.
Одно только и удалось Алексею Фёдоровичу: царь приехал сам-третей с царицею своею да с князем Дмитрием Курлятевым-Оболенским,[46] ближним думцем государевым и большим приятелем всей Адашевой семьи. Уважил государь своего постельничего: хоть и любил он сам, властелин державный, пиры раздольные, и песни, и пляски, и скоморохов, и застольный шум, а едучи к Адашевым, приказал он всему своему шутейному воинству и всем ведомым бражникам дворцовым, по всякий день готовым к гульбе, только позови, оставаться по домам да по избам своим и Адашевым не докучать. А может, и не своим умом дошёл он до того, может, и Анастасия Романовна присоветовала то ему.
Тих и задумчив был царь, и тихо стоял он во время службы в маленькой церквушечке, окружённый Адашевой роднёй, и с улыбкой милостивой и кроткой принял он от отца Сильвестра на руки свои новорождённого младенца, с любопытством глядя на его сморщенное, крошечное личико, зашедшееся в крике. И тихо стояла рядом с ним государыня Анастасия Романовна, и не веселие светилось на дивном лице её, а грусть. Кто знает, может, и не о Боге, не о таинстве святого крещения думала она, глядя, как пухлые руки отца Сильвестра опускают крохотное розовое тельце её крестника в серебряную купель. А о том, что неполной до сих пор была любовь её, неполным счастие её женское. Пятый год уж пошёл браку их с царём Иваном, а наследника трону российскому всё нет и нет.
А окрестив младенца, уселись гости и хозяева в большой светлой горнице за накрытый стол. И пировали, и веселились, и беседовали промеж себя о многих больших и малых делах, и шутили, и хвалили хлебосольную хозяюшку за усердие и доброту, и желали всему дому Адашевых добра.
Постарался верный окольничий царский, постарались молодые сыновья его! Чего только не было за тем столом: и вина тонкие заморские, и стерлядь, и белужий бок, и пироги с вязигой, и фазаны, и жареные лебеди, и засахаренные груши, и изюм, и иные многие сладости и печенья, так и таявшие во рту. А первую чашу выпили во здравие государя царя, а вторую во здравие государыни царицы, а третью за новорождённого крестника царского, Андреем наречённого, а потом и за родителей его, а потом уж, бессчётно, за здоровье и благополучие всех, кто близок дому сему, и за славу рода Адашевых, и за всё православное христианство, и за величие державы Российской, да хранит её Господь.
А последнюю чашу царь Иван поднял за учителя и наставника своего, за отца Сильвестра, встав из-за стола и поклонившись ему в пояс:
— Прими от меня, отче, низкий поклон за науку твою и за попечение твоё. И живи, и здравствуй, святой отец, многие лета, и Бога моли за нас, грешных, как молил ты в дни юности и горького сиротства моего. Знаю я о тяжкой доле моей, и знаю я, что одному мне с ней не совладать. Нуждаюсь я в помощи твоей, святой отец. Нуждаюсь я в узде твоей крепкой ради непотребств моих и неистовых моих нравов. Не предавай меня, отче Сильвестр! Не предавай и ты, Алексей, и ты, Данила, и ты, князь Дмитрий… Не предавайте меня! И щедрой будет плата моя за ваше добро…