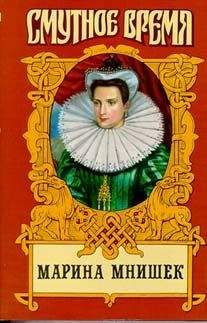Николай Коробков - Скиф
Но все возраставшее головокружение и слабость сковали его. Он закачался на бесконечных волнах и погрузился в забытье.
VIII
Просыпаясь, Орик долго всматривался в темноту, чувствовал сырость. Ему казалось в первое мгновение, что он спит где-то на берегу Борисфена. Потом он вглядывался в пробуждавшееся вместе с ним чувство тоскливого ожидания и тревоги, ощущал жгучую боль во всем теле и начинал понимать, что находится в Херсонесе, в подземной тюрьме, осужденный на голодную смерть. Он делал движение, пытаясь встать, но от этого боль возрастала, становилась непомерной, и он опять оставался лежать. В голове возникали неясные, никогда не приходившие раньше мучительно-тревожные мысли. Он то старался разобраться в них, то отгонял от себя, начинал думать о степи, о быстром беге дикого табуна лошадей, о свежем и резком ветре, несущемся навстречу, треплющем волосы и раздувающем одежду.
Казалось непонятным, что все это существует, что царь Октомасада, окруженный воинами, пирует или занимается охотой на туров; что Гнур сидит у шатра, греется на ярком солнце, обтачивает стрелы или чинит сеть; Опоя ткет пестрый ковер, поет, ходит где-нибудь по широкой степи, около стад. Степь — желтая, красная, воздух прозрачен и осеннее солнце ярко... Конечно, Опоя вспоминает о нем; отец и товарищи ждут его возвращения. Могут ли они знать, что он медленно умирает здесь?..
Ситалка... Где он теперь? Убит, возвращен хозяину, или тоже лежит в тюрьме после пытки, или умер от ран?..
Орик старался уснуть, чтобы ни о чем не думать. Но сон не приходил. Мысли плелись, спотыкаясь и путаясь, боль то таяла как будто, то вспыхивала ярко, и трудно было различить, — спит он или нет. Он лежал с закрытыми глазами, открывал их и пытался сообразить — день теперь или ночь. Но определить это было нельзя.
Потом он, должно быть, долго спал, просыпаясь лишь на короткие промежутки времени, потому что после этого стал бодрее. Ему даже пришло в голову, что можно как-нибудь спастись и что, если плечо срастется, надо сделать попытку бежать. Он сразу принял эту надежду и обрадовался.
Попробовал встать, осторожно поддерживая руку, сделал в темноте несколько шагов. Ощупал тяжелые каменные стены, обошел их кругом и стал разыскивать вход. Он помнил, что его сбросили откуда-то сверху; наконец, почти под самым потолком, нашел квадратное отверстие, плотно закрытое тяжелой дверью.
Он попробовал надавить на нее, потом долго стоял и слушал. Из-за двери доносился неясный, заглушенный шум голосов и прерывистый, захлебывающийся женский крик. Орик сделал еще несколько шагов, затем, охваченный чувством безнадежности, снова лег на пол, стараясь плотнее завернуться в остатки одежды. Его трясло от холода так, что зубы стучали.
Постепенно к прежним ощущениям примешивались новые. В желудке переливалось что-то и сжимало его короткими острыми судорогами. Все сильнее и сильнее Орика мучил голод. Хорошо зная, что здесь ничего нельзя найти, он все-таки на четвереньках оползал всю камеру, в темноте ощупывая пол, надеясь найти остатки каши, которую раньше приносил тюремщик. Но наткнулся только на пустую миску, зазвеневшую и опрокинувшуюся под рукой; больше ничего не было.
Голод доводил до неистовства. Чтобы уменьшить боли в желудке, Орик лежал, подогнув к животу колени, переворачивался, стараясь переменить положение, причиняя себе боль в плече и в обожженном железом и плетьми теле. Ему так хотелось есть, что он пытался жевать и глотать выковыренные из стены кусочки известки и глины. Постепенно мучения голода заглушили все другие боли и заставляли его вставать и ходить по камере до полного изнеможения.
Тогда он засыпал и видел во сне жирные сочные ломти жареного мяса, пенящееся голубоватое молоко — всякие кушанья; он держал их в руках, подносил ко рту, но ему ничего не удавалось съесть, так как в последнюю минуту он пробуждался. Уже проснувшись, он наяву ощущал запах свежего хлеба и жареного мяса. Постепенно мысль о еде захватила его сознание, заставляла биться головой об стену, стучать кулаками в наглухо запертую дверь и кричать.
И опять он не знал, сколько времени это длилось и сколько будет продолжаться еще. Наконец стал замечать, что двигаться ему все труднее, что, не выдерживая тяжести тела, колени подгибаются, и ноги дрожат. Постоянная острая, мучительная тошнота сменялась вдруг дрожащей пустотой в груди, как будто сердце таяло и исчезало. Тогда он задыхался от всякого движения, и ему приходилось лежать неподвижно.
Это случалось все чаще и чаще. Он уже почти не вставал, иногда испытывал блаженное ощущение величайшей легкости и невесомости всего тела.
Он много думал и вспоминал что-то, но мысли были неуловимы и неясны. Он видел странный свет, но не удивлялся этому. Разговаривал вслух или начинал потихоньку петь. Состояние неведомой раньше тонкой и нежной печали возникало в нем, когда он думал о степи и небе. Порой он чувствовал себя ребенком, и ему казалось, что руки матери касаются его головы.
И наяву, и во сне он видел себя летающим высоко над землей, слушал странную незнакомую музыку и грезил об удивительных вещах, которые потом нельзя было вспомнить, потому что для этого не находилось нужных слов. Он совсем перестал бояться голода и нередко не мог понять, жив он еще или умер; осторожно подносил руку к лицу, ощупывал высоко выступавшие над ввалившимися глазами надбровные дуги, острый твердый нос, плотно прилипшие к зубам губы и щеки, обтянутые скулы; клал руку на решетку ребер и опять снимал ее, так как от тяжести руки чувствовал удушье.
Это было последнее, что он помнил.
Когда он пришел в сознание, он увидал себя лежащим на дворе тюрьмы, под ослепительно ярким солнцем и синим небом.
Какой-то человек наклонялся над ним и, приподняв его голову, лил в рот теплое крепкое вино, потом стал кормить смоченными в вине кусочками хлеба. Орик пытался глотать их, но они застревали в горле, останавливались в груди и вызывали боль в желудке.
Человек приподнялся и стал разговаривать с начальником тюрьмы. В стороне, под охраной двух воинов, стояло несколько закованных в кандалы заключенных с изможденными голодом, бледно-землистыми лицами, в изодранных и грязных одеждах.
Как сквозь сон, Орик видел, что начальник тюрьмы подошел к ним вместе со своим собеседником, записывавшим что-то на навощенной табличке. Они осмотрели колодников; затем заблестели на солнце пересчитываемые золотые монеты; начальник сложил их в мешочек, передал расписку и сделал какое-то распоряжение.
Двум из заключенных расковали руки. Они подошли к Орику, подняли его, сопровождаемые остальными, вышли из ворот тюрьмы и под охраной солдат двинулись вслед за купившим их работорговцем.
Первое время скифа хорошо кормили; врач перевязал загноившиеся рубцы и раны, покрывшие тело, и Орик медленно поправлялся, лежа в отдельной комнате обширной каменной постройки. Потом, когда он уже мог вставать, его перевели в общее помещение.
Это был обширный сарай, с глухими каменными стенами и массивной железной дверью, запиравшейся на ночь тяжелыми замками. Здесь жило больше двадцати человек — скифы, греки, сирийцы и два негра; их черная кожа первое время вызывала у Орика страх и удивление.
Все они были собраны сюда хозяином-работорговцем для продажи и попали частью из тюрем, частью купленные у их прежних господ; трое были военнопленными и еще не примирились с мыслью о рабстве.
Эти, подобно Орику, сидели молча, и так как все они были скифы, то собирались вместе и спали рядом в одном из углов сарая. Иногда они говорили, вспоминая родину, и строили планы бегства. Они всегда были охвачены тоской и с ненавистью смотрели на остальных, громко хохотавших, споривших и дравшихся из-за еды, которую приносили один раз в день. Некоторые из рабов отправлялись на работу, другие целыми днями лежали, вставая, когда в сарай входили с плетьми в руках надсмотрщики, следившие за порядком или сопровождавшие покупателей.
Те появлялись часто, каждый день по нескольку человек, подробно осматривали рабов, торговались о цене и иногда уводили с собой одного или двух. Население сарая не уменьшалось, потому что на место проданных являлись новые; только после рыночных дней, когда рабов выводили на базар, сарай пустел, и Орик несколько днем оставался в обществе лишь старика-сирийца, не находившего себе покупателя, и двух скифов; они оба были ранены, и их пока не выводили на рынок.
Когда Орик совсем поправился, его стали тоже показывать покупателям. Но он забирался в угол, сжимал кулаки, скалил зубы и не хотел выйти, несмотря на удары, которыми надсмотрщики пытались его усмирить.
За неповиновение ему надевали кандалы и по нескольку дней держали в сырой и темной яме, служившей тюрьмой для провинившихся рабов. Наконец Орик решил не сопротивляться больше и сделать попытку бежать, когда его поведут на базар или продадут кому-нибудь. Случай представился скоро.