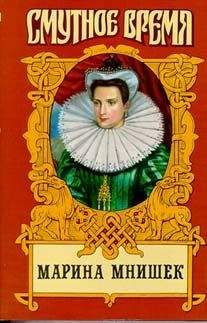Николай Коробков - Скиф
Ситалка тоже встал. Им обоим развязали ноги и заставили идти. Автоматически Орик двинулся вперед, покачиваясь, неровно ступая подгибавшимися ногами. Голова казалась ему такой большой и тяжелой, что ее трудно было держать прямо, — она как будто перевешивала все тело; он начинал спотыкаться и падал.
Крики и удары снова заставляли его встать. Он с бессознательной покорностью делал усилия, чтобы опять двигаться вперед, не отрывая глаз от земли, усеянной камнями, поросшей мелкой, сероватой, сожженной солнцем травой.
Потом, подняв глаза, он увидел стены Херсонеса, уже вырисовывавшиеся невдалеке. Вдруг он понял, что попал в плен к грекам, что его ведут в город и продадут в рабство. Он резко остановился, поднял голову и, ощутив приток силы, сделал попытку разорвать связывавшую руки веревку, но от этого усилия сразу все потемнело в глазах. Он упал и не хотел двигаться дальше. Греки тщетно пробовали заставить его встать, потом подняли и потащили под руки.
Орик смутно помнил городские ворота, громкие возбужденные разговоры и угрозы; окровавленного Ситалку, окруженного солдатами; улицы с толпами людей, кричавших и потрясавших кулаками, и сыпавшиеся на него камни. Улицы казались ему бесконечными, однообразными, похожими одна на другую, как будто он шел, оставаясь все время на одном месте. Потом он и сопровождавшие его остановились у здания с тяжелыми воротами, спустились вниз по каменным ступеням, кто-то потащил его еще дальше вглубь, освещая темноту прыгающим красным пламенем факела, протолкнул вперед, и он тяжело упал в черную яму. Стало совсем темно. Наверху хлопнули двери, глухо загремело железо.
Орик некоторое время стоял на коленях, так, как упал сначала. Затем опустился на холодный, мокрый пол, лег и испытал блаженное чувство отдыха. Боль казалась далекой, почти приятной и плыла укачивающими волнами. Тело сделалось совсем чужим и медленно каменело, как будто срастаясь с полом. Неясные краски смешивались, текли приятными дрожащими струйками, разливались высоким тонким звоном. Потом он полетел вниз, все скорей, скорей, — и провалился в черную пропасть.
Иногда Орик как будто просыпался, хотел вспомнить что-то нужное, но оно ускользало. Неясные сны снова плыли и таяли; лихорадка вдруг охватывала неукротимой дрожью; боли в голове, в плече, в боку, во всем теле становились резкими, невыносимыми. Появлялся жар, губы делались сухими, трескались от жажды, язык казался распухшим, горло сжималось судорожно.
Сколько времени это длилось, он не знал. В тюрьме всегда было темно; казалось, что это тянется одна и та же длинная, нескончаемая ночь. Но он смутно помнил, что эта ночь не раз прерывалась красным факельным светом, когда входил тюремщик, приносивший воду; Орику развязывали руки, делали с плечом что-то, вызывавшее страшную боль.
Потом постепенно сознание стало проясняться, и Орик понял, что он уже давно находится в тюрьме, что у него было разбито срастающееся теперь плечо, ранена голова и бок. Наконец, он почувствовал желание есть и, уже привыкнув разбираться в темноте, ощупью нашел стоявшую у входа миску с кашей и воду. Поел и снова лег.
Так прошло еще много времени, занятого долгим сном и короткими перерывами бодрствования.
Однажды в камеру вошло несколько вооруженных людей, и Орик при свете факелов в первый раз увидел каменную яму, где он сидел.
Ему хотели скрутить руки, но, посмотрев на переломленное плечо, повели не связывая.
Во дворе массивного здания его поставили перед сидевшим в удобном кресле закутанным в красный плащ человеком, около которого стояло несколько солдат и скиф-переводчик. Начальник сказал что-то, и переводчик спросил Орика, зачем он явился в Херсонес, к какому племени принадлежит и кого знает в городе.
Орик сначала хотел молчать и вовсе не отвечать на вопросы, но потом подумал, что, может быть, они могут известить царя Октомасаду о том, чтобы тот выкупил его и Ситалку. Он стал говорить, стараясь объяснить подробней, и рассказал, что приехал разыскивать своего попавшего в рабство товарища.
Он всматривался в лицо сидевшего человека, слушавшего перевод ответа, и был удивлен, когда понял, что ему не верят.
Переводчик объявил Орику, что его считают соглядатаем царя Палака, и добавил, что он должен рассказать все, что знает о намерениях и военных приготовлениях скифов.
Еще раз Орик повторил свой рассказ и замолчал, не желая больше отвечать на вопросы.
Сидевший в кресле человек приказал что-то, и двое воинов, подойдя к Орику, стали связывать ему руки, выворачивая сломанное плечо; отвели в сторону, привязали к ввинченному в каменный столб кольцу и начали бить плетью. Удары падали равномерно, обжигая и оставляя вздувшиеся сине-багровые полосы, под новыми ударами кожа стала лопаться; кровь потекла широкими струйками.
Орик молчал, стиснув зубы, стараясь не вздрагивать и не отрывая остановившихся глаз от пыльно-зеленой, высовывавшейся из-за стены ветки дерева, слабо покачивавшейся под ветром.
Сидевший в кресле человек встал и подошел ближе. Переводчик снова начал задавать вопросы. Орик молчал.
Отложив в сторону плеть, палач наклонился над жаровней и стал раздувать угли, лицо у него было красное и потное от напряжения; жилы вздулись на лбу и шее. Слабый синеватый огонь заклокотал, раскаляя положенные на жаровню железные полосы, прутья, клещи.
Взяв щипцами один из прутьев, по раскаленному добела металлу которого пробегали тонкие красные змейки, палач приблизился и, получив приказание, приложил железо к спине Орика.
Судороги быстрой рябью пробежали по мышцам, лицо задергалось; железо зашипело, поплыл запах горелого мяса. Не выдержав, Орик рванулся в сторону, ударился плечом о столб и почувствовал, как, хрустнув, опять сломалась плохо сросшаяся ключица. От ужасной боли все запрыгало перед глазами и отчетливо видным оставалось лишь жадно любопытное лицо допрашивавшего судьи и мелькавшая сбоку слабо покачивавшаяся ветка. Дыхание прерывалось, горловые спазмы казались Орику похожими на крик, и он постарался крепче сжать зубы. Его подтянули ближе к столбу и привязали накрепко.
Палач опять поднес раскаленную полосу. Стараясь не смотреть, Орик все-таки видел, как он дымится и сыплет мелкие искорки.
Опять железо зашипело, въедаясь в мясо. Орик услыхал, что он стонет глухо, сквозь стиснутые зубы, и, попытавшись собрать всю силу воли и сделаться равнодушным к страданиям, повис на веревках, ослабляя мускулы, стараясь ни о чем не думать.
Новое огненное прикосновение опять заставило его рвануться и привело в такое, бешенство, что, уже не сдерживая себя, он закричал, повернув голову к судье, осыпая его бешеными проклятиями. Веревки глубоко врезались в раздувшееся, покрытое кроваво-синими рубцами тело; широко раскрытые, прыгающие глаза, перекошенный болью и ненавистью рот обратили лицо в страшную маску и невольно заставили судью сделать шаг назад. Орик рванулся, снова откинулся и стукнулся головой о столб.
Его ударили чем-то тяжелым и стали хлестать плетью. Он продолжал кричать, не успевая выговаривать путавшихся и перегонявших друг друга слов, извиваясь от ударов и каленого железа, но уже не чувствуя боли.
Ему казалось, что он сейчас вырвется, выскочит из самого себя и полетит. Мгновениями его пронизывало острое, необыкновенно приятное чувство. Он переставал сознавать себя, но с необычайной отчетливостью видел залитый ярким солнцем двор, вымощенный камнем, сероватые стены тюрьмы, отблески света на медных частях вооружения воинов, дрожащие на ярко-синем фоне неба темно-зеленые листья и немигавшие глаза судьи. Ему казалось даже, что он видит свое привязанное к столбу, напряженное и изуродованное тело и как будто не сам воспринимает боль от раскаленного железа, сломанных костей и ударов плети.
Потом несколькими большими толчками, как будто отрываясь от сердца, это чувство упало, исчезло, и Орик потерял сознание.
Его привели в себя, обливая холодной водой. Судья уже сидел на своем месте; переводчик еще раз приступил к допросу, но ничего не добился. Тогда он объявил, что Орика отведут в тюрьму и, если он не пожелает говорить, — уморят голодом.
Орика отвязали, сделали перевязку и, придерживая под руки, потащили вниз.
Оставшись в своей подземной камере, он лег на пол и опять перестал чувствовать себя. Казалось, что он весь обратился в сплошную боль, разнообразную, все возраставшую и ширившуюся. Смерть нисколько не пугала его. Он очень хотел бы умереть, но как это сделать, не знал.
Он стал думать. Можно было бы с разбегу удариться головой об стену, но он чувствовал, что для этого у него не хватит силы, — ведь он не мог даже стоять. Никакого оружия у него не было. Задушить себя невозможно. Тогда он попробовал перегрызть себе жилы на руках, зная, что через них может выйти вся кровь, и наступит смерть.
Но все возраставшее головокружение и слабость сковали его. Он закачался на бесконечных волнах и погрузился в забытье.