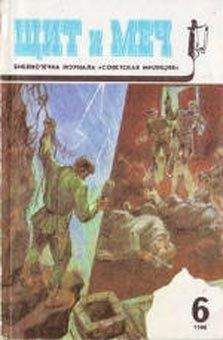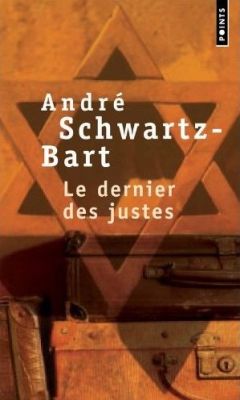Андрэ Шварц-Барт - Последний из праведников
Господин Биньямин Леви, ее супруг, постоянно задавался вопросом, как ей удается сохранить узкие и белые руки богатой женщины. Он так никогда и не заподозрил, что эта девственная белизна требует к себе внимания. Он не замечал, к каким ухищрениям прибегала жена, чтобы не сломать ноготок при чистке картошки, чтобы не поранить кожу, тонкую, как драгоценная шкурка горностая.
Юдифь вообще утверждала, что ее невестка ни к чему не притрагивается руками: она все делает щипчиками!
Что же касается Биньямина, то он был в восторге. Ночью, когда жена спала, он любил ощущать на своей ладони эти пальчики, которым его воображение придавало самые различные формы: зверьков, растений и даже пяти волосков, что уж совсем походило на бред, но он с упоением поглаживал их на мягкой поверхности подушки.
Первое время после свадьбы его удивляло, что она не перестает «вылизывать себя, как кошечка». Каждый раз после супружеских ласк она спускалась в кухню и мылась с ног до головы. Его терпение, в конце концов, лопнуло бы, но всякий раз она чуть-чуть душилась под мышками, отчего все ее свежевымытое тело начинало благоухать, а потом она появлялась в ночной рубашке, держа свечу подальше от волос, свежая и застенчивая, как ребенок, и комната наполнялась легким сиянием, и тени уходили прочь, и сердце господина Биньямина Леви начинало учащенно биться.
— Ну, госпожа Блюменталь, — говорил он, взволнованно улыбаясь, — нагулялись вдоволь?
— Так я же хотела сделать тебе сюрприз, — покорно отвечала она, садясь на край кровати, и в оправдание бегства с супружеской постели подносила ко рту своего скромного повелителя яблочко или бутерброд с маслом, или кусочек сахару.
Однажды он застал ее за странным занятием. Затянув пояском талию, она стояла в ночной рубашке одна посреди комнаты и, извиваясь, принимала призывные позы, словно русалка на вывеске парикмахерской. Распущенные по плечам волосы делали ее похожей на пушистого зверька, старили ее личико и вместе с тем придавали ему выражение детского кокетства. Биньямин расхохотался. На единственном примере своей жены он теперь знал, что все женщины — маленькие девочки, засидевшиеся в невестах; у всех у них тело развито больше, чем ум, и они любят окружать себя несуществующей тайной. И только позже он узнал, что маленькая Блюменталь жила в узком мирке, населенном страхами и еще двумя-тремя чувствами, тоже страшными по своей примитивности, в числе которых были любовь к нескольким существам и задушенная радость, доставляемая плотью.
Страх она унаследовала по прямой линии от матери, женщины властной и по натуре и на вид, но ставшей беспрекословной рабыней господина Блюменталя. На нее иногда нападали приступы жестокости, и в такие моменты она испытывала особое наслаждение. Но болезнь превратила ее в настоящую сварливую злюку, и, когда она умерла, господин Блюменталь не придумал ничего лучшего, как тотчас же жениться на такой же злюке. Маленькая Блюменталь терпела гнет этой чужой женщины вплоть до своего замужества, которого неистово добивалась ее мачеха. Вскоре та поняла, что город с будущим — не Штилленштадт, а Берлин, и пигалицу Блюменталь оставили на милость семейства Леви. Отъезд отца она восприняла как расставание с жизнью: на этот раз она окончательно потеряла почву под ногами. Само собой разумеется, что теперь больше всех на свете она боялась Юдифи. Каждое распоряжение свекрови бросало ее в дрожь. И хотя Муттер Юдифь была свирепа только на словах, маленькая фрау Леви сгибалась, чуть выставляя локоть, словно боялась, что рано или поздно ее по-настоящему ударят. При этом, правда, она смотрела чудовищу прямо в глаза. Юдифь даже смущалась, встречая этот нежный взгляд в ответ на свою вспыльчивость. Как будто фары маяка обливают светом ни с того ни с сего разбушевавшееся море. До рождения первенца маленькая Блюменталь покорялась малейшему движению грозных бровей. Муттер Юдифь была единственной хозяйкой дома и, боясь, как бы невестка не вторглась в ее владения, прибегала не к одной, а сразу к двум мерам предосторожности: доверяла невестке разные дела только нехотя и никогда не скрывала от нее, что сама сделала бы их куда лучше. Так было до первых родов маленькой Блюменталь.
Наступившая немедленно после свадьбы беременность послужила новым поводом к унижению будущей мамы Леви: Муттер Юдифь обращалась с ней как с хранительницей драгоценности, принадлежащей в первую очередь семейству Леви, или точнее, как с флаконом для духов, который, разумеется, не способен понять, какой ценности влага в нем содержится. Заботясь о зарождающемся ребенке, Муттер Юдифь приказывала флакону находиться в лежачем положении, пить как можно больше пива и ни на минуту не забывать о незаслуженной чести быть вместилищем одного из отпрысков семейства Леви.
— Осторожно с ребенком, — говорила она таким тоном, что получалось: «Помни, что ты носишь нашего потомка».
В порыве невольного протеста маленькая фрау Леви сверлила Муттер Юдифь своим робким, но упорным взглядом ручной птицы и, наклонясь, подхватывала ладонями огромный живот. С тех пор, как ребенок начал в ней шевелиться, этот жест профессионального носильщика вошел у нее в привычку.
Конфликт вспыхнул в родильном доме. Тоненькая, но полногрудая роженица лежала, слегка приподнявшись на подушках, а Муттер Юдифь, держа на коленях запеленатое существо, сидела у нее в ногах и принимала поздравления посетителей. Все восхищались мальчуганом, выслушивали авторитетные комментарии Муттер Юдифь и время от времени поглядывали на роженицу, как бы вспоминая: «Ах, да! Она ведь тоже имеет к этому некоторое отношение!»
Вдруг маленькая Блюменталь резко приподнялась и не своим голосом закричала:
— Отдайте его сюда, он мой!
Воцарилось неловкое молчание. С соседних кроватей послышался шепот. Побагровев, Муттер Юдифь нахмурила брови и не спускала глаз с невестки, но та, бледная и задыхающаяся, оперлась на руки и оставалась непреклонной, исполненная новой ненависти и новой любви. Однако как только ей отдали ребенка, она приложила его к груди, повернулась на бок и почти сразу же заснула, настолько обессилил ее этот исключительный взрыв энергии.
Господин Биньямин Леви втайне ликовал, а растроганный Мордехай уважительно заявил: «Да хранит нас Бог, вот и появилась в нашем доме настоящая волчица». Муттер Юдифь не сказала ничего: пока пигалица не отнимет детей от груди, она будет оставаться их матерью.
Настоящая драма разыгралась позже. Дети уважают только высший авторитет. У Мордехая всегда хватало благоразумия в их присутствии отступать перед господином Биньямином Леви на задний план. Но ничего подобного не делала Муттер Юдифь. Когда внуки подрастали настолько, что могли уже ей подчиняться, она незамедлительно занимала пост «главной мамы». Таким образом пигалице дали отставку, сохранив за ней лишь право выкармливать младенцев. Она, в конце концов, привыкла к тому, что дети постепенно от нее отдаляются, и видела в том неизбежность судьбы. На Муттер Юдифь она смотрела просто как на первый шаг к окончательному разрыву с подросшими детьми, который для ее материнского сердца означал уход в небытие. Более того, она даже прибегала к авторитету Муттер Юдифи и, если дети не сразу ее слушались, скрепя сердце, вызывала «главную маму». Маленькая Блюменталь не сомневалась, однако, что неиссякающим источником материнства, таинственным образом питающим сердце каждого ее ребенка, оставалась именно она и только она. Именно за ее юбку держались неблагодарные существа, когда им почему-то становилось грустно, именно подле нее усаживались они в кухне, когда их охватывала беспричинная тревога, которая утихает при звуке лишь одного-единственного голоса из всех, какие есть на свете.
Муж ее ничем не отличался от остального человечества: ни в грош ее не ставил и, если обращался к ней, то лишь затем, чтобы посмеяться, как над малым ребенком.
А ведь когда-то давно, когда она действительно была еще глупой девочкой, она мечтала о муже, для которого она будет хоть что-то значить, в жизни которого будет играть хоть какую-нибудь роль.
Но господин Биньямин Леви обращал на нее внимания не больше, чем на букашку, и не раз она сдерживала желание вдруг подойти к нему и спросить, какого цвета у нее глаза. Полагая, что он не сможет ответить на ее вопрос, она в отчаянии представляла себе, как он небрежно скажет: «Что? Глаза? Ну, как же они… они… Слушай, не приставай ко мне с разными глупостями!» Она была убеждена, что он никогда в них не смотрел.
Но в этом она как раз ошибалась, впрочем, как и во всем остальном. Потому что чувствительный Биньямин знал не только, какого цвета у его жены глаза, но и какие у нее ресницы, и какие крапинки на радужных оболочках — чего никто на свете, кроме него, конечно, не замечал. Он знал, что правый белок светлее левого, и мог бы рассказать еще много всякого… если бы только его спросили. Но разве о таких вещах можно говорить? Маленькая Блюменталь легла к нему в постель по велению долга, и не оставалось времени на подобающие до женитьбы ухаживания, которых она, кстати, вовсе и не требовала. По этой же причине даже спустя много времени после женитьбы Биньямин все еще называл жену «барышней Блюменталь», скрывая за дружелюбной насмешкой безумное целомудрие, мешавшее ему признаться в глубокой привязанности к этой женщине, ставшей его женой в силу обстоятельств. Любовь их была как бы глухонемой, хотя иногда все же из темных ночных глубин над ласками взметались крики, и оба упивались непередаваемым взлетом, о котором они, однако, никогда даже не упоминали, ибо совершенно ясно, что такие вещи относятся не к здешнему миру. Понадобилась старость, а главное — приближение насильственной смерти в концлагере, чтобы у Биньямина хватило духу признаться своей жене в любви. Она не поняла, что он хотел сказать.