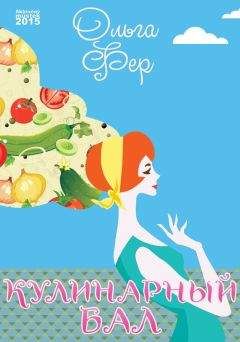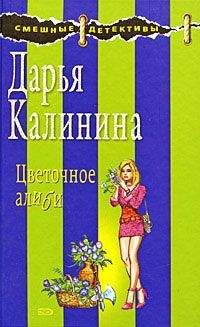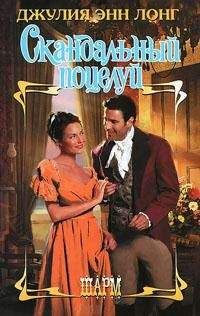Валерий Кормилицын - Разомкнутый круг
Максим с удивлением глядел на отца – дался ему этот лист, чего в нем нашел интересного?
Голос отца стал тих и слаб…
– Я скоро уйду!.. – Он поднял руку, чтобы остановить готовые сорваться с губ сына слова возражения. – И вот тебе мой наказ… Я написал друзьям – они помогут… Ты должен стать офицером! Все Рубановы были военными, правда, выше капитана или ротмистра не поднимались и богатства не скопили… Да это и не важно! Важно – Родину защищать!.. Станешь воевать – а этого не минуешь – и забросит тебя судьба в Австрию, найди деревушку Зальцбург и поле за ней, вот на том поле у реки перед мостом и закопаешь сей орден. – Слабой рукой пошарил под подушкой и протянул крест «Святого равноапостольного князя Владимира». А в-третьих, ежели сумеешь, отомсти врагу моему, генералу Ромашову. Даже на смертном одре не могу я простить ему…
Максим удивленно поднял брови. Отец надолго замолчал.
Неожиданно слабая улыбка тронула губы больного.
– Самая сладкая месть – женись на его дочери!
Максим непроизвольно коснулся золотого крестика на своей груди.
– …Это будет для генерала огромным ударом! – Аким в изнеможении откинул голову на подушку. – А теперь поцелуй меня… И ступай пригласи дьякона – причаститься хочу…
Стараясь незаметно стереть слезу, Максим пошел к двери.
Последнюю свою ночь на этой земле Аким Рубанов не спал!..
Он блаженствовал, слыша победные боевые трубы…
Красивый и крепкий, летел на коне, ловя благосклонные взоры синих глаз императрицы Екатерины, серых – императора Павла и голубых – Александра…
А затем перед его взором простерлась бесконечно длинная дорога со следами сапог, конских копыт и орудийных колес…
Это была последняя дорога из всех, истоптанных им… И он одиноко шел по ней!
И последнее, что увидел или почувствовал, – это образ артиллерийского капитана, медленно поднимавшегося вверх, к небу, и растворявшегося в плотном утреннем тумане…
И АКИМ ПОШЕЛ ЗА НИМ!!!
Его соборовали…
Он лежал под образами в прекрасном гусарском мундире, и горевшая лампадка отбрасывала тусклую тень на его лицо. Между большим и указательным пальцем правой руки светился огонек свечи. Поднимавшееся солнце затмило лампадку со свечой, и его яркие лучи подбирались к покойнику.
Ольга Николаевна велела зашторить окна и зажечь побольше свечей… В комнате было душно от набившихся бородатых мужиков-крестьян и их жен. Они усердно кланялись в молитве, прощаясь с барином. Время от времени раздавались женские всхлипы. Ожидали из Чернавки старика священника.
В сарае Агафон с Данилой спешно ладили гроб.
Максим убежал в сад подальше ото всех – от матери, няньки, дворовых – и долго, без слез и в молчании, лежал на теплой земле, в нервном ознобе вздрагивая плечами.
Когда его нашли и привели в дом, священник торжественно служил панихиду… Максим, с трудом переставляя ноги, подошел к отцу и прижался губами к холодному и жесткому лбу, затем на шаг отступил и, то ли из-за горевшей лампадки, а может, свечи отбрасывали столь причудливую тень, но ему показалось, что губы отца чуть раздвинулись в улыбке, успокаивая и поддерживая его…
Схоронив мужа, Ольга Николаевна как-то сразу успокоилась… Раскаяние перестало угнетать ее – каяться теперь не перед кем! «Сын еще маленький и ничего не понимает», – думала она, а чувствовать себя виноватой перед крепостными ей, столбовой дворянке, не к лицу.
Постепенно она расцвела и стала следить за собой. Клавикорды звучали веселее, возобновились занятия французским с сыном, и однажды она даже поймала себя на мысли, что ей скучно без генерала, что она жалеет об его отъезде. Ее даже бросило в жар и стало стыдно за эти греховные желания.
Нянька осуждающе качала головой – еще сорока дней не прошло, а барыня веселится, но сказать в глаза боялась: «Какая-то дочка стала не такая! – думала Лукерья. – Да и этого долдона Данилу что-то очень привечать начала… Ох, не доведет это ее до добра, не доведет, – переживала старая мамка и иногда даже плакала, обняв Максима и называя его сиротинушкой.
Он стал тих и задумчив… Опять прилежно занимался французским с маменькой, счетом и письмом с чернавским дьячком, но с особым тщанием, помня наказ отца, тренировался за конюшней в стрельбе из пистоля и без устали крутил саблю, развивая запястье.
На сороковины, несмотря на непролазную грязь, из далекого блестящего Петербурга прибыли отцовы друзья – князь Петр Голицын и командир гусарского полка Василий Михайлович. Максим с восторгом смотрел на них, любуясь ладной формой и боевым видом. Они казались выходцами из другого мира, недоступного для него, – мира, где сражаются с врагами, ухаживают за дамами и танцуют на балах.
Даже толстый полковник вызывал в нем неизбывное чувство восторга, не говоря уже о стройном красавце ротмистре, чем-то неуловимо напоминавшем отца.
Как хотелось бросить этот дом и деревню и умчаться с ними в неизведанную новую жизнь. Он согласен был чистить их лошадей, только бы взяли его с собой. «И чего отец вернулся сюда, в эту скучную Рубановку?» – недоумевал он.
Гусары галантно раскланялись с Ольгой Николаевной и приложились к ее ручке. С таким же восторгом, как и сын, она глядела на военных и вздыхала от жгучей зависти к их женам, живущим где-то там, в недоступной мечте, где есть театры, опера, балы и блестящие гвардейские офицеры…
Офицеры наперебой ухаживали за дамой – подвигали ей кресло, целовали руки, накидывали на плечи шаль. И бесконечно говорили об Акиме…
Вечером дом сиял от многочисленных свечей, зажженных в зале.
Дворовые не понимали – сороковины в усадьбе или бал?!
– Годовой запас сожгут! – бурчала нянька.
Агафон был доволен: выпивки сколько душе угодно.
Данила, напротив, хмурился: ему не нравилось, как барыня смотрит на приезжих.
Вечером поминали Акима. Разговоры, как всегда, начались с воспоминаний о походах и стычках. Голоса военных звенели сталью гусарских сабель, а фразы были резки, словно команды. Пили привезенное шампанское, домашние наливки, а под конец лениво тянули водку, закусывая хрустящей рубановской капусткой. Устав сидеть за столом, отправлялись в конюшню поглядеть на лошадей. Максим показывал им свое умение стрелять из пистолета и управляться с саблей.
– Весь в отца! – хвалили парня офицеры. – Знатный гусар получится. Сердце его пело от этих слов.
Замерзнув, возвращались в гостиную, разговор возобновлялся, снова наполнялись бокалы, дым от трубок поднимался к потолку, и вот уже вместе с ними Максим был в Варшаве, Берлине и Париже, сражался на полях Австрии и Италии. Господи! Как ему хотелось уехать в столицу и, поступив на службу, стать таким же элегантным и храбрым офицером, как князь.
Утром запрягли лошадей, и гости поехали на кладбище. Приезжие сделались строги, угрюмы и сосредоточенны. Склонив головы, стояли они перед простым свежим крестом, и Максим увидел, как тяжелые мужские слезы, стекая по щекам, теряются в их бравых усах. Стояли молча, и каждый думал о своем.
Затем похмельный Агафон, кряхтя и шумно выдергивая ноги из грязи, прибил к кресту дощечку с надписью и отошел, любуясь своей работой. Поворотившись, поглядел на гостей, ожидая стаканчика с водочкой или, на худой конец, хотя бы слов одобрения… Не дождавшись ни того ни другого, грустно вздохнул и уставился на доску, пытаясь понять ее смысл и уразуметь значение таинственных букв и цифр.
На следующий день гости уехали, пообещав на прощание Максиму, что займутся его судьбой…
Но дни шли за днями, а никакой весточки из Петербурга не приходило. Почтовые кареты не привозили депешу с вызовом или письмо, срочно требующее его приезда в столицу.
Жить стало намного тоскливее, чем раньше.
Максим снова привык к тишине и, вспоминая отца, иногда украдкой смахивал слезы.
От матери все чаще и чаще попахивало хмельным. Ольга Николаевна все больше времени проводила с Данилой.
9
Новый, 1807 год встретил безрадостно и скучно, ожидая письма из Петербурга, которого все не было.
– Да дите ты еще! Куда тебе в гусары? – обнимала его нянька, стараясь поддержать и успокоить. – Потерпи еще годок-другой, успеешь саблей-то намахаться…
«Так и состаришься здесь! – грустил Максим. – А для нее все дите будешь…»
19 февраля ему исполнилось четырнадцать лет! День начался так же однообразно, как и вереница предыдущих. Со смертью отца что-то важное ушло из души Максима. Не стало прежнего веселья и радости… Нянька прибаливала, и Ольга Николаевна отправила ее в деревню. А может, болезнь была лишь поводом: барыня чувствовала себя неуютно под осуждающим взглядом Лукерьи. Акулина сбилась с ног, готовя угощение. Барыня, чувствуя вину перед сыном, хотела хоть как-то оправдать себя и решила шумно отпраздновать его четырнадцатилетие. Но никто из соседей приехать не смог или не захотел. Разозлившись, она с обеда уже начала отмечать именины, и вскоре верный Данила помог ей добраться до спальни. Акулина, заделавшись ключницей, от злости на изменника Данилу напоила Агафона, и тот, заметно кренясь, отправился в конюшню задать корм лошадям и больше не появился. «Видно, споткнулся о вилы, а встать сил не нашлось», – подумала девка. Напившись чаю, она тоже направилась отдохнуть. С утра натоплено было на славу, и сон быстро сморил ее.