Борис Акунин - Вдовий плат (сборник)
Григориева опять позвякала мешочком, и взгляд преосвященного ожил. Феофил хорошо умел отличать золотой звон от серебряного.
Она села к столу, подношение положила себе под локоть, сразу не отдала.
Малое время поговорили о пустяках: про осеннюю погоду, про цены на хлеб, про молебен за Оленино брюхо.
Тем же мягким голосом, без перерыва, боярыня сказала:
– Попы твои, которые в Нереве служат, с ума посходили от жадности. Грех на себя берут. По закону-обычаю им в выборные дела мешаться не след, а они в церквах говорят пастве за Ананьина. Побранил бы ты их, отче.
Феофил покосился на ее локоть, должно быть, прикидывая, сколько кораблеников. Однако страх перед Марфой пересилил.
– Пастырь сам решает, чему паству учить, дочь моя. У вас свои законы, у церкви свои. Не к лицу мне и не к месту за такое священников бранить.
– Что ж, – не стала настаивать Каменная, – тебе, владыко, виднее.
Подумала: ну, пугать я умею не хуже Борецкой.
– Говорят, недомогаешь, отче? Опять чрево мучает?
– Оно, треклятое. Испытывает меня Господь колючими коликами и многими поносами, одной молитвой спасаюсь.
Наклонившись, Настасья тихо молвила:
– Уж не травят ли тебя недруги медленным ядом?
– Что?!
Старик переменился в лице.
Она перешла на шепот:
– Говорят, ты грибы моченые в укропе любишь, по три плошки за ужином съедаешь. И ковриг имбирных штуки по четыре.
– Кто тебе рассказал, что я на ужин ем? – еще больше напугался Феофил. – Я всегда на трапезу в келье затворяюсь!
– Не в том дело, кто рассказал. – Каменная смотрела на него с прищуром. – А в том, что и в грибной рассол, и в имбирное тесто отраву спрятать легче легкого – не почуешь. Сам знаешь, какое сейчас время. Решит кто-нибудь, что ты делу помеха – и не остановятся перед страшным грехом, ироды. Озверели все, Бога не боятся.
И перекрестилась, по-прежнему не отводя от владыки глаз.
Он сделался белее белого. Понял.
Опыт научил Григориеву, что с людьми надо вести себя так: кто сильный – с тем гибко и мягко; кто сам гибок и мягок – тому обухом в лоб.
– Так ты собери нынче попов, поговори с ними, – уже не чинясь приказала она.
– Соберу…
– Скажи, что надо обоих выдвиженцев хвалить, ибо оба люди достойные. Про Ананьина попы пастве уже много говорили, так что завтра пускай и про Ярослава Булавина доброе расскажут. Тогда никто на тебя в обиде не будет – одну сторону уважил и другую не забыл.
Второе правило обращения со слабыми: хлестнул кнутом – дай лизнуть сахарку.
Раскрыв мешочек, Настасья медленно высыпала блестящие золотые кружки с чеканными корабликами.
– Когда у меня родится внук или внучка – не откажи покрестить. Втрое дам.
На обратном пути Каменная опять улыбалась.
Трусливый владыка – это, как всё на свете, и плохо, и хорошо. Верней так: для глупых плохо, для умных – хорошо.
А тебя, Марфа Исаковна, завтра ждет некое удивление. Прибегут твои людишки после обедни, расскажут про поповские речи, а сделать ты уже ничего не сделаешь. Не успеешь. Послезавтра выборы: концы назначат избранщиков.
Тонкий разговор
Вечером четырнадцатого октября, в конце долгого дня, едучи из Славны на Плотницу, Настасья вышла из возка на мосту, перекинутом через Федоровский ручей, оперлась на дубовые перила, подставила разгоряченное лицо холодному ветру и долго стояла так, смотрела на черную воду.
Устала от людей, криков, толковища, помощников – от всего.
Слуги, сегодня особенно бдительные, в кольчугах и шлемах, стояли по обе стороны моста, терпеливо ждали, оберегали боярыню. Во тьме красноватыми пятнышками светились слюдяные окна великого города. Теперь он был Настасьин. Ну, почти. Дело оставалось за малым. Еще один толчок, один непростой разговор, и многотрудный день будет завершен.
Григориева ехала на пир, который устроил для плотницких обитателей Ондрей Горшенин, победитель на тамошнем вече и ныне один из пяти утвержденных избранщиков. Прошло всё гладко. Еще с утра стало известно, что боярин накрывает вдоль волховского берега столы – праздновать победу, и вече продлилось недолго. Собрались, послушали речь Горшенина и его вялого соперника; соперник споткнулся на ступеньке, грохнулся во весь рост – по толпе прокатился рокот. На кончанском вече голосовали не через выборных представителей, как на вече великом, а попросту – криком, всею толпой. За кого громче покричат, тот и победитель. Если, бывало, кричали примерно одинаково и не разберешь – начиналась драка, и тут уж одолевали те, у кого задору больше и кулаки крепче. Но сегодня все дружно проорали за Горшенина и прямо с площади, гурьбой, повалили угощаться. Теперь уж, наверное, перепились – Григориева ехала поздравлять Ондрея Олфимовича, предварительно объехав другие концы.
На Славне тоже сложилось тихо, чинно. Больше половины кончан пришли в красных шапках. Захар сказал ладную речь, обещался блюсти славенский интерес на степенном посадничестве, и хоть всем мало-мальски сведущим людям было ясно, что посадником Попенку не бывать, слушали его хорошо и прокричали за него одномысленно.
Таким образом вся Торговая сторона, оба ее конца, ничем не удивили, достались без особенных забот.
Иное вышло на Софийской стороне, по которому Каменная ныне и моталась весь день-деньской.
В Людине на вече разразилась большущая голка. Бились сторонники горшенинского племянника Михайлы, сумы переметной, со сторонниками людинского боярина Микши. Тот был человек небогатый, умом недальний, но с хорошей поддержкой на некоторых улицах. Настасья помогла Микше деньгами и людьми, а на вече прислала всех своих крикунов (почему они высвободились, о том сказ впереди). Перекричать Михайлу, конечно, не надеялась. Расчет был на то, что из-за драки собрание разладится и сегодня никого не выберут, назначат новый день – уже и это было бы успехом.
Сначала казалось, что замысел удался. Побоище раззадорилось такое, что сковырнули вечевой помост и опрокинули церковную ограду. Нескольких человек убили до смерти, а покалеченным счет шел на десятки. Уже и за владыкой послали, чтоб шел из Града с иконами – прекращать кровавое неподобие. Того-то Настасье было и надо: явится владыка – голосованию конец. Но с Нерева разом набежали Марфины псы во главе с Корелшей, человек сто или полтораста. Ударили сбоку клином, в кулаке у каждого по свинцовой бите. Рассекли толпу, чужих побили, своих согнали в кучу, и оставшаяся толпа прокричала-таки за Михайлу. Из Настасьиных на Людинской площади четверо лишились жизни и еще человек двадцать унесли на руках.
Ну и ладно. Не очень-то Каменная расстроилась. Людин конец изначально был не ее.
Зато вон что вышло на Нереве, в самом Марфином гнездовище.
Вчера, в самый последний день, вдруг объявили, что Аникита Ананьин переходит из неревских выдвиженцев в загородские. У Ананьиных в Загородском конце тоже были торговые лавки, поэтому нарушения закону от этого не вышло. Случилось оно уже заполдень, после того как по всем неревским церквам попы дружно восславили Ярослава Булавина. Вот Борецкая и решила поступить наверняка, чтобы не лишиться своего главного избранщика. В Загородском конце она могла творить, что пожелает, и Аникиту там, конечно, прокричали. Вот почему освободились Корелша со всеми паробками, чтобы удержать Людинские выборы.
Зато на Неревском вече выборов вообще не получилось. Вышел на помост один Булавин, покрасовался перед толпой, сказал боевитую речь, спросил: «Ладен ли я вам, братья неревские?». Все закричали: «Ладен! Ладен!». И вся недолга.
Двух-с-лишком-месячные труды завершились отменно: три городских конца оказались свои и только два Марфины. Казалось бы – радуйся, Настасья Юрьевна, пируй.
Но не такова была Григориева. Чем больше проглотит, тем делалась голоднее.
Еще со вчерашнего дня, когда стало ясно, что Булавин в Нереве побеждает, закрутилась у Каменной одна думка, опасная, но и несказанно соблазнительная.
С этой думкой она сейчас и ехала на Плотницкий пир. Затем и вышла на продуваемом ветрами мосту – освежить усталую голову.
Ну, пора.
Помогай Господь…
* * *Шум гульбища был слышен издали. Там над речным берегом покачивалось желтое и пурпурное зарево от костров, на которых зажарили целых быков, свиней, баранов. Сейчас, к ночи, остались одни кости, мясо давно съели. Наполовину пусты стояли и бочки с подогретым медом, пивом, сбитнем. Пировали не первый и не второй час, так что многие уже упировались до сонного лежания, но за столами для вящих людей пока еще сидели чинно и даже слушали речи.
Настасья увидела самого Ондрея Горшенина с чашей в руке. Боярин говорил что-то высоким, звучным голосом. «…И не забуду своих истинных другов, кто шел со мною рядом», – донес ветер обрывок фразы. Все зашумели, закричали, но в веселье уже чувствовалась сытая, хмельная усталость.
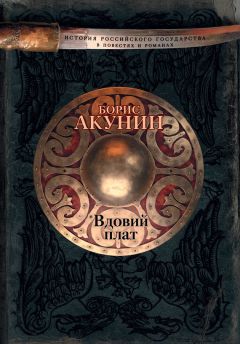

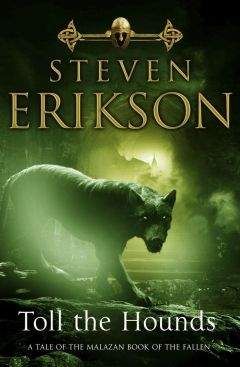

![Иоанна Хмелевская - Большой кусок мира [Большой кусок света]](/uploads/posts/books/227132/227132.jpg)