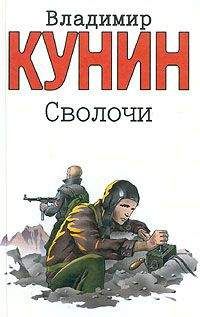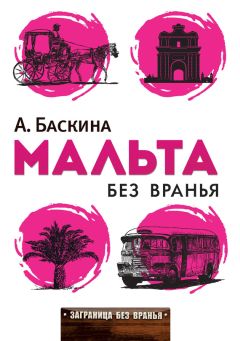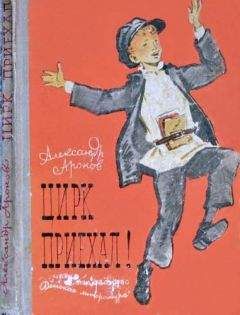Цирк "Гладиатор" - Порфирьев Борис Александрович
А Верзилин спросил:
— Бум — это кто?
Коверзнев вздохнул, покосился на Нину. Потом ответил:
— Насчёт Бума мнения расходятся. Нина уверяет, что это собачка. А я считаю: старичок. Иначе — почему же трубочка?
— Ты лучше подумай, как билеты достанешь, — прервала его слова Нина.
— Достану, — успокоил её Коверзнев.
И действительно, они простояли всего несколько минут у старинного особняка, рассматривая тусклые витражи первого этажа, изображающие рыцарей, как Коверзнев появился в подъезде, размахивая билетами.
Перед особняком толпилась нарядная публика, стояли коляски и автомобили.
— Идёмте, — сказал Коверзнев, пропуская вперёд Нину, поддерживая её за локоть.
У входа, на тумбах, обтянутых жёлтым бархатом, стояли скульптуры девы Марии и Христа; бог–сын в бело–голубых одеждах глядел с распятия на Верзилина, Никиту и Левана укоризненно — видимо упрекал: отъелись, бездельники, а я страдай за вас.
Верзилин даже вздохнул, до того ему стало неловко за свою комплекцию… И вообще, чёрт возьми, зачем они затесались в общество, которое именует себя: «весь Петербург»!.. Он попытался взглянуть на свою компанию их глазами — глазами золотой молодёжи, модных адвокатов, гвардейских офицеров, мордастых подрядчиков, нажившихся на японской войне… Да, занятная, видно, картина: трое громадных, пышущих здоровьем мужчин и худенькая красавица грузинка. И Коверзнев, как назло, исчез куда–то…
Верзилин обвёл подозрительным взглядом первую залу, снова вздохнул. Но вдруг глаза его задержались на небольшом полотне: зелёные берёзки на угоре, за, ними река, жеребёнок щиплет травку–ничего словно нет, а сердце сжалось. «Какая прелесть, — подумал он. — Век бы смотрел…» — и, не отрывая взгляда от картины, отыскал Нинину руку и сжал её.
— Чудесно, — сказала она, ответив на пожатие, — Леван, Никита, смотрите.
— Бесподобно, — согласился её брат.
— Словно в детстве… Босиком побегать хочется… Цветы собирать… — отозвался задумчиво Никита.
Но тут появился Коверзнев и потянул их за собой, торопливо объясняя:
— Сейчас я вас познакомлю с Яном Францевичем — он художник и путешественник. Объездил Палестину, Аравию, Индию, Алжир… Где только не был! Романтик! Настоящий романтик! И музыкант!.. Приятель Рахманинова.
Они шли по анфиладе комнат, лавируя в толпе, поглядывая на картины и на цветы в одинаковых горшочках, расставленные вдоль стен.
Нина шепнула Верзилину:
— Вот всегда так — ищет, в кого бы влюбиться. Создаёт себе кумиров… Однако увлечение вами — это, по–моему, единственное его увлечение, принявшее хронический характер…
— Мною? — спросил Верзилин, да так громко, что Коверзнев приостановился, поинтересовался:
— Что?
— Нет, нет, ничего. Рассказывайте, — торопливо сказал Верзилин.
— Так вот, в Индии с ним интересное происшествие было. В Калькутте. Решил он визит нанести радже. Фрак надел, цилиндр — знай наших. Раджа на ковре сидит, ноги калачиком. Телохранители рядом, опахалами его обмахивают… Встречают русского гостя с восточной вежливостью, показывают на специальный трон. Штука древняя — тончайшей резной работы… Гость поклонился и сел на трон, да довольно резко. Трон и разлетелся!.. Бац!.. Он встаёт, потирает ушибленные места… А раджа, как истый джентльмен, не замечает случившегося и спрашивает: «А как здоровье вашего императора его величества Николая Второго?» Ха–ха–ха!
— Тише, — одёрнула его Нина, — на нас смотрят. И потом — ты вечно забываешь об осторожности.
Коверзнев надулся, стал скучным, недовольным тоном познакомил их с художником.
Это был высокий красивый мужчина с рыжими усами. Что–то общее было у него с Коверзневым, — видимо порывистость, горячность.
Он поцеловал ладонь Нине, дёрнул за руки мужчин, отбежал к стене и, тыча тростью в розовые, голубые и жёлтые этюды, заговорил торопливо:
— Это верблюды… верблюды… отдыхают… на фоне… на фоне белой стены… Это гостиница в Александрии… ещё Александр Македонский основал… не гостиницу, а Александрию… Это же верблюд… на котором я ездил… Вы видите? Видите? Это же краски горят… переливают… Это же Египет… экватор… А вот на этом этюде сфинкс… и пирамида Хефрена в Гизе… Там около сотни пирамид… И все близ Мемфиса… Три самые высокие — Хеопса, Хефрена и Менхереса… Бонапарт тут был… в 1798 году…
От отскочил в сторону, взмахнул тростью (дама в шляпе величиной с таз шарахнулась от него) и заговорил ещё быстрее:
— Это же находка. Великолепная находка для художника… Я неделю ехал на верблюде… чтобы увидеть этот памятник…. Это же самое сердце Абиссинии… Я оружие отдал абиссинцам — пусть гонят итальяшек… Всё оружие… А они мне дали за это… осла… Я по горам на нём карабкался… Туман закрывал эту гору с памятником… Я приготовил три картона и два дня ждал с кистью в руке, чтобы написать его, и вот он, наконец, показался на пять минут… и снова скрылся… Вы видите, это же гранит…. гранит полированный… поёт красками… поёт…
— А почему тускло? — осторожно спросила Нина.
— Да как вы не понимаете? Тропическое солнце обесцвечивает, всё обесцвечивает, поглощает все цвета… Это же экватор…
В зале появился распорядитель, в смокинге, в скрипящих ботинках, зашептал что–то художнику. Тот извинился перед Ниной, сказал, что должен идти.
Пожимая руку Верзилину, разглядывая его, пообещал:
— А ваш портрет напишу… напишу… Вы мне и раньше импонировали своей силой… Видел я вас… видел… в цирке… В красном трико и с жетонами — очень хорошо получится…
Когда фалды его фрака взметнулись в дверях, Нина сказала Коверзневу с упрёком:
— У тебя всегда так: восхищаешься, а непонятно — чем? Король–то голый.
— Голый? Голый? — искренне возмутился Коверзнев. — А ты посмотри, какое настроение!.. Это же романтика!..
— Романтика биографии, а не картины. Ни одна из картин не окончена; это же всё этюды… на картоне. Недоноски.
— Ну и что? Ну и что — недоноски? Выкидыш — это преступление для художника, а другое дело — недоносок… И с женщинами так бывает: нервная, хрупкая натура не может доносить плод, а для грубой, здоровой — хоть бы что… Мы забываем о том, что Врубель не претворил в жизнь ни одного из своих громадных замыслов. А Серов, Серов? Что? Что?
— Глупости, — сердито сказала Нина. — Серов тут ни при чём. И Врубель тоже.
— Я ничего не понимаю в этом деле, — сказал Верзилин, — однако целиком присоединяюсь к Нине Георгиевне… Хорошо, выкидыш — преступление, я с вами согласен. А что же тогда недоносок? Несчастье? Не можешь написать картину, так и не берись за неё. Нина права. Странно было бы недоноска–спортсмена выпустить на арену цирка. Талантливый гимнаст, не отработавший номер, — недоносок. Выпустите его — и он на первом же представлении разобьётся… А что, если бы я выпустил неподготовленного Никиту (он кивнул на парня) против Александра Мальты? Преступление? Преступление и позор!
— Я идиот! — воскликнул Коверзнев, стукнув себя по лбу. — Рассуждаю о картинах, когда сейчас решается судьба русской славы!.. Мальта, Мальта… Да его давно и след простыл… Но зато Корда приехал и может уехать победителем. Это из страны — то, в которой полно богатырей!.. Идёмте!.. — сказал он повелительно.
17
Усадив Верзилина в старое пыльное кресло, Коверзнев снял с себя бант, дёрнул за воротник бархатной куртки. Забегал по просторной комнате, спотыкаясь о складки ковра, приговаривая:
— Почему Никита? Почему Никита?
Верзилин потянулся к столу, взял из груды хлама фарфоровую курительную трубку и, разглядывая её, ответил спокойно:
— Я же объяснял — у меня до сих пор не действует раненая рука. А Никита — это талант. И помимо силы обладает некоторой техникой. Работа грузчика заставляла его находиться в постоянной форме… Конечно, есть известный риск.
— Но тут рисковать нельзя!
— Вы так горячитесь, словно отвечаете за судьбы русского спорта. По крайней мере, петербургских цирков.
— А кто же будет отвечать, если не я? — удивился Коверзнев.