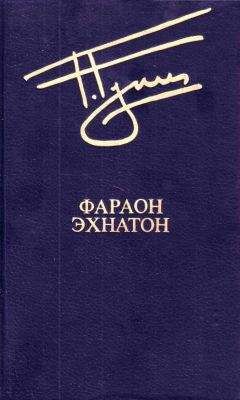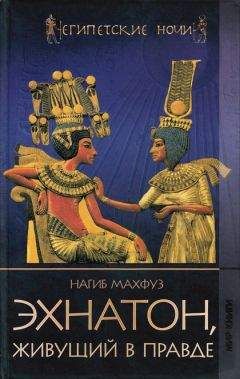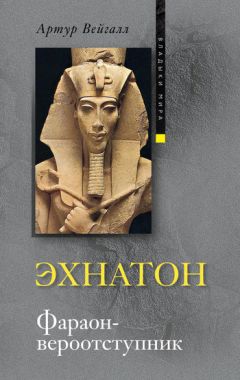Александр Западов - Забытая слава
Молодой двор был замкнут для посторонних людей, а своих кавалеров там не хватало. Да и кто из камергеров Екатерины, принадлежавших к знатным семействам России, обратит внимание на немецкую сироту?
Иоганна слышала о Сумарокове, не раз видала его на придворных церемониях. В мечтах ее избранником был бодрый немецкий офицер, лучше даже принц, пусть владеющий лишь одним захолустным городком. Но немецкие принцы охотились за дочерями европейских монархов. Окружавшие великого князя голштинские офицеры, как на подбор, редкие грубияны и пьяницы. А Сумароков был свободен. С ним могла стать свободной и она.
Иоганну смущало, что Сумароков слывет сочинителем, что он слишком быстр, порывист, неумерен в речах. К тому же он имел привычку нюхать табак, угощая коричневой пылью грудь камзола, кафтан и туфли. Не украшали его и рыжие волосы, как не красило моргание, подмигивание то левым, то правым глазом. Правда, ресницы у него были длинные и красивые.
Верно и то, что Сумароков русский офицер в майорском чине, и хоть служит он не в полку, зато близок Разумовскому и у всех на виду. И если приложить к нему твердую женскую руку, можно сделать его похожим на других аккуратных людей, привести в полный разум.
Когда Екатерина передала ей свой разговор с Сумароковым, Иоганна охнула про себя, но благодарила с чувством и томностью.
— Я сделала, что сумела, — сказала напоследок великая княгиня. — Теперь сама за него принимайся и помни, что железо куется горячим, не правда ли, Иоганна? «Пришел, увидел, победил», — как говаривал Юлиус Цезарь.
Иоганна понимала это. Но «прийти» и «видеть» было не так-то просто. На спектаклях не поговоришь, вокруг столько глаз и любопытных ушей, в церквах они бывали разных, Иоганна — в лютеранской, а Сумароков — в православной, если он вообще когда-либо захаживал в церковь. Встреча на маскараде? Сумароков их не жаловал. Однако он мог стать знаком великому князю и приходить на концерты, которые иногда устраивались в его комнатах. Или нет, еще вернее — он может приходить к Чоглоковым!
Муж и жена Чоглоковы — камергер и статс-дама Мария Симоновна, двоюродная сестра императрицы, ее любимица, — вскоре после женитьбы Петра Федоровича на Екатерине были приставлены к ним главными надзирателями. Императрица желала исправить характер наследника престола, отучить его от дурных наклонностей и послеживать за великой княгиней, которую молодой супруг не баловал своим вниманием. Екатерина сразу поняла характер этих глупых и вздорных соглядатаев и научилась незаметно командовать ими. Теперь, в разгаре ее романа с Сергеем Салтыковым, Чоглокова уверили, что он обладает талантом стихотворца, сочиняет нежные песни, и каждый день стали требовать от него новых. Чоглоков с преважным видом вооружался пером и целыми вечерами выводил на бумаге бессмысленные строчки, а молодая компания шумела и веселилась, прикрывая беседы Екатерины с любовником.
По совету Иоганны, Чоглоков позвал к себе Сумарокова, чтобы показать ему свои песни.
Собрался обычный кружок — Екатерина с фрейлинами, камергеры Сергей Салтыков и Лев Нарышкин, два-три гостя. Чоглокова скоро ушла в спальню, — она донашивала ребенка, седьмого по счету, — а муж ее дожидался, когда наступит черед его песням.
Присяжный балагур и потешник этой компании Лев Нарышкин, посвященный Екатериной в обстоятельства Иоганны, обратился к Сумарокову:
— Александр Петрович, наш любезный хозяин сочинил песенку. Не угодно ли послушать?
Мягким баритоном он запел:
Если девушки метрессы,
Бросим мудрости умы;
Если девушки тигрессы,
Будем тигры так и мы.
Как любиться в жизни сладко,
Ревновать толико гадко,
Только крив ревнивых путь,
Их нетрудно обмануть…
— Какова песенка-то? — спросил он, оборвав пение. — Что ж сочинитель не подтягивает?
— Это песенка моя, — ответил Сумароков, поглядывая на Чоглокова, — да подтягивать я не стану.
— Что ж ты, брат, чужое за свое выдаешь? — с деланным возмущением обратился Нарышкин к Чоглокову. — Зачем друзей подводишь?
Чоглоков раскрыл рот, соображая ответ, однако Нарышкин не дал ему размышлять.
— Вот эта уж наверное твоя песня, подпевай, — скомандовал он Чоглокову и, придав серьезность своему подвижному лицу, затянул:
Как зреть я стал тебя,
То страсть в меня вошла,
И в оный час любовь моя
Уж превзошла совсем меня.
Сумароков невольно улыбнулся. Нарышкин заметил это и с удвоенным старанием выговаривал слова. Чоглоков тонким голосом пел вместе с ним, отстукивая такт ногой и млея от удовольствия.
— Александр Петрович, — тихо позвала Екатерина, — удостойте нас беседы.
Она сидела с Иоганной и Сергеем Салтыковым на диване, куда не доходил дрожащий свет горевших на столе свечей, и Сумароков, только подойдя ближе, разглядел говорившую.
— Садитесь, Александр Петрович, — негромко раскатывая «р», произнесла Иоганна.
На диване было тесно, и Екатерина, а вслед за ней Салтыков поднялись и перешли на кресла, стоявшие по соседству.
Сумароков сел и поискал в карманах табакерку.
— Я очень люблю ваши песни, Александр Петрович, — сказала Иоганна. — Сочините одну для меня.
Петь она не умела, но сноровкой в разговоре обладала.
— Обещаю вам, сударыня, что сочиню, и самую приятную.
— Ах, нет, зовите меня, как зовет великая княгиня; просто Иоганна, — потупившись, сказала она и, оправляя пышное платье, совсем придвинулась к Сумарокову.
Нарышкин обвел глазами комнату, в полутьме у дальней стены увидел силуэты двух пар и завел с Чоглоковым новую песню.
3Изредка встречаясь с сыном, Петр Панкратьевич огорчался, видя его невеселым. Он спросил о причине расстройства, когда Сумароков навестил семью, что бывало весьма нечасто.
— Сам не знаю, что со мной, — чистосердечно признался он. — Я здоров, граф мною доволен, по службе упущений не имею. Беспокоен же я от своих мыслей. Право, жалею подчас, что миновали кадетские годы, а с ними веселье и ясность духа.
— Не век же сидеть в корпусе, — усмехнулся отец. — Ты взрослый человек, ребячество пора оставить. Стишками не проживешь.
— Стишками балуются, стихотворство же исправляет пороки, — убежденно сказал Сумароков. — Нравы дворянства немалой поправки требуют. И то, что каждый день во дворце вижу, не трагедии, но сатиры просит: ласкательство, вымогание наград, взаимная вражда, утрата чести и совести.
— Государыне свой престол устраивать нелегко. Дай срок, все наладится, тогда и добродетель возрастет.
— Это зависит от писателей и начальников, — ответил Сумароков. — Одни толкуют добродетель, другие должны за нее награждать. Но монархи не всевидцы. Потому надобны также вельможи, которые бы им помогали отличать правду от зла. А если вельможи, как у нас то ведется, травят зайцев или играют в карты днем и ночью, то за ними и все дворяне либо в поле, либо за карточный стол.
— Экая беда — карты! — сказал Петр Панкратьевич. — Надобно ведь провождать время, а кроме карт, обществу заниматься нечем.
— Нечем, когда голова пуста, — возразил Сумароков. — Но пустой голове должно ли большой имети чин? Неужели же нельзя хулить пьянство, потому что знатные господа его придерживаются? Трусливый моралист лучше не принимайся за перо. А я не таков, батюшка, вы меня знаете.
Петр Панкратьевич был несколько озадачен порывом сына.
— Видать, накипело у тебя, Александр. Я от дворца далек и, признаться, о том не жалею. Мне в коллегии дел хватает, искать ни в ком не хочу, что есть, тем доволен.
Сумароков не вслушался.
— Религия и правосудие, — продолжал он, — что может быть их святее, но сколько же в них злоупотребления! Суетно все на свете, когда добродетель подпоры не имеет.
— Да, да! — приговаривал Петр Панкратьевич. — Только успокойся ты. Ведь как развоевался, право!
— А судьи, хватающие взятки, всех тварей гаже. И ежели крючкотворный подьячий должен получать жестокое наказание, чем же грозить судье? Продавая истину, он воров и разбойников бездельством своим превосходит. Нет ему в свете соразмерной казни. Когда я такого злодея только воображу, вся во мне востревожится кровь.
Сумароков схватил графин, наклонил его над бокалом и залпом выпил вино.
— Простите, батюшка, — сказал он, переводя дыхание. — Накатит иной раз — сам не рад. А на бумагу все не положишь. Надо и выговориться, бывает.
Помолчав минуту, он продолжал:
— Я ведь к вам не жаловаться пришел, а благословения просить.
— Что ты?! Никак надумал жениться? Уж вот бы славно-то! А кого думаешь, взять? И не меня ли хочешь сватом?