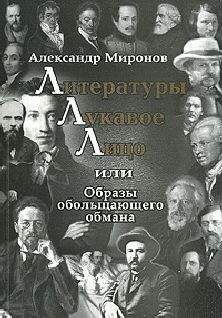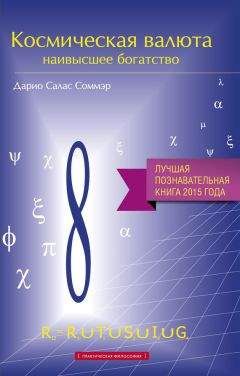Ал. Алтаев (М. В. Ямщикова) - Гроза на Москве
Ужасные вести достигли Новгорода. Говорили, что царь решил разрушить все свое царство до основания.
Полный гнева шел вперед грозный царь. Он сознавал, как была плоха жизнь вокруг него, но не знал, как ее исправить, а потому все только разрушал, ничего не созидая на развалинах.
Царь оставался еще в Медном, когда Василий Степанович Собакин поднялся с насиженного места и увез дочь в Москву, недаром боясь царского прихода: царь шел с великим гневом на Новгород.
Этот город был старинный враг Москвы; ему не могли простить его стародавней вольности. Из Новгорода выходило много искусных людей в разных ремеслах и художествах. Новгород был средоточием торговли и кишел всяким пришлым иноземным людом; о свободолюбии Новгорода по Москве постоянно шли толки. Тут еще явился донос какого-то бродяги Петра Волынца; Волынец говорил, будто новгородцы готовы предаться Сигизмунду, и написанный договор хранится за иконой Пресвятой Богородицы в храме св. Софии. Этого было довольно…
В крещенье 1570 года царь явился в Новгород. Он был разгневан дорогою еще больше. В Торжке на него поднял руку один из крымских пленников, которых вместе с ливонцами он подверг жестокой казни…
Страшная судьба ждала Новгород. Говорили, что в нем за шесть недель погибло около шестидесяти тысяч человек; говорили, что Волхов был запружен трупами… С царем тешился молодой царевич Иван… Насытившись кровью, царь сказал:
— Да умолкнет плач и рыдание; да утешится скорбь и горесть! Живите и благоденствуйте в граде сем.
И пошел на Псков, как сытый и усталый хищник.
Псков встретил его колокольным звоном. Молились псковичи день и ночь, ожидая смерти и прощаясь друг с другом. И царь устало сказал:
— Притупите мечи о камень! Да прекратятся убийства.
Псковичи наставили перед домами столы с яствами. И от их ли покорности, или от смелого слова юродивого Николы Салоса, но царь не тронул псковичей. Он ничего не сделал и блаженному, который предложил ему в дар кусок сырого мяса.
— Теперь пост, — сказал царь.
— Ты творишь хуже — питаешься человеческой плотью и кровью, забывая не только пост, но и Бога, — отвечал блаженный.
На Москве было тихо. Марфа Собакина жила у вдовы дяди и ежедневно виделась с князем Иваном Лыковым, теперь уже объявленным ее женихом, виделась то открыто в доме, то тайком у частокола, разделявшего сад Собакиных от сада Лыковых. И чем больше узнавала Марфа князя Ивана, тем крепче привязывалась к нему.
Среди ужаса окружающей жизни он сохранил чистое детское сердце, отзывчивое и доброе. Много раз уже передавали ему, что царь дивится, почему бы ему не приписаться к опричнине, но князь Иван решительно отказывался от этой чести.
Он мечтал о другом. Он рассказывал Марфе, как хорошо живут у немцев, какие там высокие дома из камня, как богато одеваются немецкие женщины и не сидят в теремах под замком; она вспоминала о том, что видела среди немцев в Новгороде, и ей чудилось, что в его словах правда; она кивала головою и думала о том, что скоро так же будет и на Руси; будет закон, а не самоуправство; всякий малый мальчишка будет уметь читать книжку; все станут жить в славном мире и довольстве, «у всех равно откроются глаза». И оба страстно верили в эту лучшую жизнь…
Свадьба была близка; ждали только возвращения Василия Степановича из Новгорода, куда он поехал поправлять разрушенное гнездо, да и замешкался не на один месяц. Прошла весна, настало лето красное; в саду стало больше тени и больше зноя на лужайках со скошенной травою и начинавшими наливаться ранними яблоками; зацвела липа.
Скрипели веревки, обтянутые красным сукном, качалась тихо и мечтала Марфа… И сразу встрепенулась и бросилась к частоколу, услышав хруст сухой ветки. Качели дрогнули; алые сафьяновые башмачки замелькали в зеленой траве; запрыгала золотая коса на спине…
— Ваня… желанный… голубчик!
И вдруг руки, протянутые для объятья, опустились, личико вытянулось.
— Власьевна, ты? Пошто ты?
На Власьевне не было лица; едва вымолвили дрожащие губы:
— Тш… помолчи, касатка… Сам князь твой меня послал; наказывал накрепко… не пужайся… а чего там не пужаться… пристав у нас… Под стражу его, вишь, берут… да и самого боярина Михайлу Матвеевича…
Она тихо, беззвучно заплакала.
— Слышь: тайно приехали, как вороги, как тать ночная: коней оставили далеко, в проулке; вошли бесшумно… Что-то будет, Господи!
Побелела вся Марфа, даже губы стали белые, но ни слезинки не выронила, поправила на себе фату, завернулась получше.
— Куда ты, ясочка?
— К вам, Власьевна…
— Ахти, тошно! Да князь-то просил, чтоб ты не ходила… сказывал, накажи накрепко не ходить… Хуже будет: есть у него немало ворогов, так тебе бы чего не сделали… Приплетут к нему, вишь, и Новгород, зачем он в Новгород ездил, — ныне, сказывают, всех ищут, кто в Новгороде бывал… Сгубишь ты его, как есть сгубишь…
Марфа остановилась.
— Что ж… я… я не пойду… — тоскливо сказала она, полная ужаса от своей беспомощности.
Ей казалось, что сердце ее перестало биться. Власьевна наклонилась к ней.
— Эх, касатка, — прошептала она жалостливо, — коли хочешь поглядеть на него в последний раз, ступай сюда: отсель, из заросли, ворота видно… Иди скорее, чтобы не услышали.
Марфа перелезла через забор.
Она стояла в той самой заросли, где два года тому назад ее нашел князь Иван, когда опричники искали ее на дворе у тетки. Теперь опричники пришли за ним, и она не могла его выручить…
Раздвигая густые зеленые ветви боярышника, она жадно смотрела на двор с утоптанной травою, где столпились слуги. Послышался шум в доме; распахнулись двери, и на резном крыльце показался князь Иван. Потемнело в глазах у Марфы; шибко забилось сердце; рыдания подступили к горлу.
— Князь мой… любый… голубь мой… — шептали ее побелевшие губы.
По пухлому лицу Власьевны тихо катились слезы. Она поддерживала Марфу и тихо, почти беззвучно бормотала:
— Никшни, ягодка… сдержись, сердешная… скрепи сердце…
Он был без шапки, бледный как смерть, но казался твердым; высоко держал он голову, хоть и был позорно связан по рукам веревками. За ним показалась могучая фигура князя Михаила Матвеевича Лыкова, тоже связанного; на грудь низко упала серебряная борода.
Князь Иван на минуту остановился, окинул зеленый двор прощальным взглядом, посмотрел на старые липы, свешивавшиеся из сада Собакиных, наверное, подумал крепко о той, которая ждала его в их тени, и, тряхнув головою, бодро пошел вперед.
— Гайда! Гайда! — раздалось за ним, и из хором повалили опричники.
Потом князя Ивана посадили на лошадь, посадили и князя Михаила Матвеевича и опять загикали.
В криках и топоте копыт не слышали опричники отчаянного женского крика, который зазвенел в густой заросли… Марфа Собакина упала замертво на руки старой няньки Власьевны…
Прошло две недели, но о Лыковых не было никаких известий.
Была суббота. Смеркалось… Старая Авдотья Григорьевна Собакина вернулась давно от всенощной и улеглась на постель отдохнуть; из сумрака опочивальни слышался ее ворчливый голос:
— Ужо батюшка вернется, племянница, что я ему скажу? День и ночь слезы льешь, а что толку? Разве у тебя, по твоему богатству, женихов не хватит? Был бы товар, а купцы найдутся! Что молчишь-то, ровно мертвая?
Никто не ответил. Ворчливый голос становился все медленнее и тише:
— Пожалуй, плачь… Уж коли под стражу попал — не быть добру, грозен царь, никого не милует… Ты о нем бы молчала: забыла нешто, как два года назад здесь опричники тешились?
И опять, не получив ответа из соседней светлицы, старуха замолчала…
Золотистая головка поднялась от стола. Заплаканы были глаза Марфы. Тихо встала она и прислушалась к сонному дыханию тетки; крадучись, побежала вон из светлицы в сени, а оттуда на крыльцо, а с крыльца в сад, к частоколу.
— Власьевна, здесь?
— Немало времени уж я жду тебя, касатка.
— Ну что, выведала?
— Жив еще голубчик наш, и старый князь жив, а сказывали, пытали их крепко…
Глаза Марфы широко раскрылись от ужаса.
— Пытали… как пытали? Как пытали-то?..
— А не ведаю как, только жив еще, знаю я. Слышала, болтают люди, вину на них обоих кладут, дескать, бунтарям потворствовали, митрополита Филиппа руку держали, а пуще того, что с новгородцами заодно были, Псков и Новгород Жигмонту-королю отдать хотели, а на место законного царя Владимира Андреевича, князя Старицкого, покойного норовили поставить. Сказывают, многих под стражу взяли и из кромешников: Вяземского князя, Басманова с сыном и много других…
— Да когда ж это было, Власьевна?
— Никогда, ясочка, а так только толкуют. Да еще толкуют: недаром в заморские края оба ездили. Они к Жигмонту-королю гнут…
— А Осетра видала? — вся замирая, спросила Марфа.