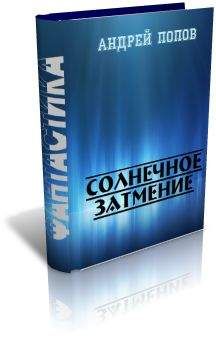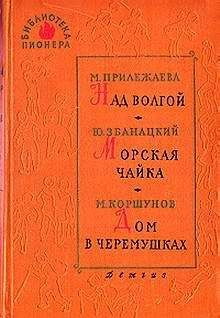Андрей Гришин-Алмазов - Несчастливое имя. Фёдор Алексеевич
В толпе чувствовалось напряжение, она зло гудела. Было непонятно, что ожидать от разбойных, бродячих, гулящих и нищих. Один из приказных радостно крикнул:
— Вота и долетался соколик!
И огромный камень из толпы тут же сбил его с ног. Толпа бушевала, оттесняемая стрельцами.
Андрей постарался попасться Ермилову на глаза, и тот радостно заулыбался при виде друга, жестом велев рейтарам пропустить его.
Повозка со Стенькой забила обитыми колёсами по мощёной сосной Лубянке, направляясь к Боровицким воротам, возле которых толпа была ещё больше. Сквозь шум послышалось неразборчивое нытье Фрола Разина. Брат в клетке развернулся к нему и, перекрывая шум, громко и в то же время спокойно произнёс:
— На шо ты плачишси? Мы получима великий приём, самые крупные вельможи встретить нас!
Недалеко от Кремля два казачьих старшины, прибывших вместе с Ермиловым, Фрол Минаев и Корней Самаренин, обрезали верёвки, державшие брусья клетки, они рухнули, оставив на повозке виселицу: два столба и перекладину, к которой и был прикован Стенька Разин. Его слова сбылись: за стенами Кремля его встречал весь двор. На красном крыльце в окружении ближних бояр стоял сам царь Алексей Михайлович.
По повелению царя Стеньку с товарищами поместили в подвалы Тайницкой башни. Каменные, тёмные и сырые, они соединялись со всеми теремами Кремля подземными ходами, ими пользовались лишь избранные.
Андрей Алмазов, закинув кафтан стрелецкого сотника, пользуясь знаками Приказа тайных дел, прошёл этими ходами под Тайницкую башню. Стрельцы впустили его к Стеньке, тот угрюмо сидел на полу, за ноги и руки прикованный к стене.
— Барич пришёл позрети на зверя. Тот звирь я.
— Брось, Степан Тимофеевич, мы с тобоя видамшись ранее, — подходя ближе, спокойно произнёс Андрей.
— Чей-то не припомню.
— Астрахань, пытошную избу помнишь?
Стенька пристальней посмотрел на Андрея, затем в какой-то злобе дёрнул обритой головой:
— А, дворянский сын. А ловко ты тогда утёк. Пришёл должок вернуть?
— Мой должок тебе без мене вернут.
— А вдруг я слово и дело[114] кликну. Припомню, как ты бояр честил. Не боишься?
— Не боюсь. Не тот ты человек, шобы Митьку перед кем-то ломати. Собственная гордыня колом в горле встанет.
— Иш ты какой. Мене серавно гинуть. Хожь с собой пару таких, как ты, не утащить?
— Дурак ты, а мене с тобой поговорить хотелось.
— О чёма?
— А можа, и не о чем. — Андрей махнул рукой. — Выпить хошь, заснёшь лехчее.
Блёклые глаза Стеньки чуть загорелись.
Андрей вынул из-за пояса флягу, Стенька тремя-четырьмя огромными глотками опорожнил её, блаженно прикрыв очи.
— Скоро пытать тебе придут, но сильно не будут, о тебе так усё ведомо.
— Пущай потешутси напоследок.
— Чаво ты хотел-то, я так и не понял. Погулять, пограбить, а там куды вынесет?
— Можа, и так, а токо терпеть енту свору зажравшуюся уже мочи не хватало. Как клопы из всего кровя пьють и всягда правы. И нету на них ни суда, ни погибели. Всегда извернутси, як ужи. Вот я им нямножко кровя и пустил: Лыковым, Прозоровским, Тургеневым, до кову рука дорвалась.
— А других таких же Львовых, Панкратовых возля себя пригрел? Да, правда у всех своя. У бояр — боярская, у дворян — дворянская, у купцов — купецкая, у казаков — казацкая, а у холопов — холопская. Кажий лишь свой пуп видить. Ладныть, атаман, пойду я, можа, ещё свидимси.
Так же, подземными проходами, Андрей удалился из подземелья и, выйдя из Кремля, направился к Агафье Немой. Ещё до вечера ему хотелось пройтись по городу, по злачным местам, послушать, что говорят лихие. Как всегда в таких случаях облачившись горбуном, выпятив губы, измазав лицо и надев лапти, Андрей обошёл пять-шесть кабаков, где народ гудел, но всё же был сдержан, пока не добрался до «Лупихи». Двери кабака были сорваны, притворы и те выворочены.
Андрей медленно вошёл в кабак. Никто не обратил на него внимания. Постоянных было почему-то мало, больше пришлых, явно разбойных с большой дороги. Сев в уголке, стараясь быть незаметным, Андрей, взяв кувшин вина, осмотрелся и как бы весь съёжился, увидев слепцов и поводыря, тех, что так испугал по возвращении из Астрахани. Один из разбойных с рваным ухом о чём-то спросил старика, и тот запел. Вначале на него не обращали внимания в кабацком гвале, но затем постепенно шум стих, и в наступившей тишине слепой старик со всей душой голосисто и в то же время тихо тянул:
Ах, туманы, вы мои туманушки,
Вы туманы мои непроглядные,
Как печаль-тоска ненавистные,
Ненавистные, окаянные.
Не поднятьси вам, туманушки, со добра поля долой,
Не отстати тебе, кручинушка, от ретива сердца прочь,
Не унятси тебе, дума думная,
Дума скорбная, ты подлючая.
Ты возмой, возмой, туча грозная.
Ты пролей, пролей, крупен дождичек,
Ты подмой, подмой стены крепкие.
Ты размой, разломай земляну тюрьму,
Что б тюремщики разбежалися,
Молодци вольные во тёмном лесу собиралися,
Во дубравушке во зелёной,
На полянушке на широкой.
Под берёзонькой они становилиси,
На восход Богу молилися,
Улыбалися, целовалися,
Красну солнышку поклонялися,
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горою взойди над высокою,
Над дубравушкой над зелёною,
Над урочищем добра молодца
Степана, свет Тимофеича,
По прозванию Стеньки Разина.
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты нас, людишек бедных,
Добрых молодцев, людей беглых.
Мы не воры, не разбойники,
Стеньки Разина мы работнички,
Есауловы все помощнички.
Мы веслом махнём — корабель возьмём,
Кистенём махнём — караван собьём,
Мы рукой махнём — девицу умыкнём,
Сабелькой рубанём — боярина убьём.
Глаза у седевших в кабаке разгорались. Руки тянулись к поясам. Послышались вначале шёпотом, а потом всё громче и громче дерзкие речи:
— А почему б не отбити Степан Тимофеича?
— Я хоша Стеньку и не знавал, но за токого атамана хошь щас готов на всё пойтить.
Андрей поднялся и направился к выходу. Но тут он встретился взглядом с поводырём, и тот, узнав его, заорал:
— Ярыга, ярыга, бей его.
Андрей рванулся в выбитые двери. Кто-то рванулся за ним. Но Андрей нёсся сломя голову, понимая, что от этого сейчас зависит его жизнь. Лишь пролетев пару перекрёстков, запыхавшись, перешёл на шаг. Он вновь спешил в Китай-город, в терем Матвеева Артамона Сергеевича.
После кабака венецианские зеркала, резные дубовые столы, стулья с гнутыми ножками казались сказочной роскошью. Сенная девка поставила возле стола по велению Андрея жбан ячменного пива. Его сначала не признали, но когда он скинул горб вместе с кафтаном и вытер лицо, сразу впустили в дом, зная, что хозяин пропускал этого человека к себе в любое время суток.
Уже давно стемнело, боевые холопы вышли охранять двор, а в доме многие легли спать, а Матвеева всё не было. Свеча, стоявшая перед Андреем, давно затухла, его голова опустилась на руки, лежавшие на столе, и он сладко уснул.
Его разбудил свет: холоп внёс литые подсвечники, осветившие помещение, Матвеев вошёл вслед за ним.
— Што-то столь спешное и важное, раз ты прождал мене до ночи?
— Да! Стеньку не можно держати долго на Москве. Со всей-то округи стягиваютси гулящие и разбойные людишки, беглые холопы, усё кабаки переполнены. Один озлобленный вопль али клич — и така каша заваритси, как при Соляном бунте.
Матвеев понимал, что любому слову Андрея можно верить, тот всегда всё проверял и редко ошибался, многое предвидя.
— Дума собирается ко царю только завтрева, значит, казнить можно будеть только послезавтрева,— сказал он, озлобившись.
— Тогда повели призвати на Москву ещё стрельцов и солдат из Коломны, Серпухова и Звенигорода.
— А не торопишь ли ты мене?
— А когда усё заваритси, уже поздненько будет.
— Ладноть, гонцов прям сейчас спошлю. Иди наверх, я повелел тебе устелити. В городе балуют на улицах, уйдёшь утром.
Андрей ушёл в сопровождении холопов и, заставив себя скинуть грязные лохмотья, лёг на ложе и почти сразу уснул.
Весь день пятого июня 1671 года Москва бурлила. Никто не работал и не торговал, рынки пустовали. Люди как будто отмечали печальное событие. Кабаки были переполнены, пили на улицах, споря до драк о Стеньке. Стрельцы боялись разгонять народ. В Кремль собрались все влиятельные, знатные, могущественные и богатые. Отсутствовали лишь те бояре, что были на дальних воеводствах. К вечеру после допроса с пристрастием царь и бояре порешили казнить братьев Разиных на следующее утро, через четвертование. Весть об этом почти сразу разнеслась по Москве, и многие не спали ночь, дожидаясь утра. А поутру шестого июня вся Красная площадь была забита людьми, яблоку упасть было негде. Недалеко от Лобного места плотники за ночь сколотили плаху, подход к которой охраняли стрельцы да наёмные немцы, а возле стены поставили возвышенное царское место.