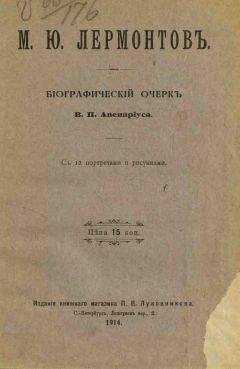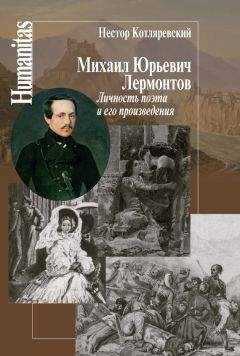Исай Калашников - Последнее отступление
Усаживаясь возле стола, Рокшин зябко ежился, сметал ладонью налет инея с воротника теплого пальто.
— Холодно, Евгений Иванович? — спросил Серов.
— Да. Что ни день, то холоднее. На улице дышать трудно.
— Это вам кажется, на улице потеплело — и дышать стало определенно легче…
Рокшин понял, что хотел сказать Серов, вскинул быстрый, оценивающий взгляд и сухим, официальным тоном выложил:
— Мы — представители меньшевиков, эсеров и союза торгово-промышленных служащих, уполномочены заявить протест против незаконных действий Совета и потребовать: первое — заверения, что арест купцов ошибка, а не рассчитанная политика угроз и запугиваний, второе — освобождения арестованных, третье — отмены контрибуции, именуемой налогом, — Рокшин поочередно прижимал к ладони тонкие пальцы.
Делегаты придвинулись ближе. Эсер Потакаев, загораживая других, утвердился локтями на столе, смотрел на Серова большими задумчивыми глазами. Он казался робким, застенчивым, но Серов знал, что, пополняя кассу своей партии, этот самый Потакаев выпотрошил немало сейфов.
— Все, Евгений Иванович? — спросил Серов.
— Да, все. Разве этого мало?
— Давайте по порядку. Первое: арест купцов не ошибка. Мы и впредь будем сажать за решетку тех, кто активно противодействует Совету. Второе: купцов мы выпустим немедленно, если они уплатят налог. Третье: отмены «контрибуции» не будет. Что еще?
Потакаев удивленно заморгал глазами, убрал локти со стола.
— Мы организуем забастовку, — подал голос из-за его спины один из делегатов. — Все магазины будут закрыты…
Серов чуть приподнялся, чтобы лучше увидеть того, кто говорит, спросил:
— Вы серьезно?
Ответил Рокшин:
— Вполне! Мы предвидели, что вы откажете.
— Да ведь и мы, Евгений Иванович, предвидели кое-что. — Серов спрятал в усах усмешку. — Организаторы забастовки будут сразу же выдворены из города, над магазинами Совет установит свой контроль.
— Вы недалеко ушли от анархистов! — срывающимся голосом сказал Рокшин. — Те грабят, угрожая револьвером, вы — прикрываясь постановлениями Совета.
Потакаеву не понравилась такая запальчивость, он поморщился.
— Это вы слишком, Евгений Иванович… — Опять положил локти на стол, подался к Серову: — Но я должен сказать, что, отстаивая свободу, нельзя попирать права и нормы.
— А я должен спросить, — в тон ему ответил Серов, — о чьих правах идет речь? О свободе для кого? Советую призадуматься над этим.
Делегаты ушли, пытаясь держаться независимо, с достоинством, но от Серова не укрылось их смущение, даже растерянность. Конечно, они не ожидали такого резкого отпора, рассчитывали припугнуть забастовкой. Нет, господа хорошие, пугливых, слабонервных тут нет. Что бы ни случилось, ни он, ни его товарищи не пойдут на попятную. Но Рокшин… Впрочем, чему удивляться. До тех пор пока есть борьба, будут и заблудшие, и сломленные, и отступники. Хорошо еще, если он в числе первых.
7Федька сдружился с Савкой Гвоздем. Савка приглянулся ему своей бесшабашностью. Жилось с ним легко и весело. Неведомо как, неизвестно где Гвоздь добывал деньги. Нет-нет да и пригласит Федьку в подвальчик на Лосевской. Похлопает рукой по карману, спросит:
— Выпьем?
Федька не отказывался. Садились всегда за один и тот же стол в углу. Савка подзывал Любку, бросал на стол деньги, приказывал:
— Неси, горячего-холодного, жареного-вареного…
Когда Любка уходила, он подмигивал Федьке:
— Сочная девка, а? Моя краля. — И жмурился, словно кот у печки.
Федька не очень-то верил. Он уже давно заметил, что Савка любит прихвастнуть. Ну, а в общем-то, он парень ничего. Деньги есть — сам пьет, других поит-кормит. Себе даже одежонку добрую не заведет по этой причине. С причудами парень. Рад-радешенек бывает, когда хвалят.
Но иногда хвастовство Гвоздя начинало надоедать Федьке, он резко обрывал дружка:
— Богало ты. Храбрый только за столом. И Любка с тобой только от скуки водится. Она девка видная, а ты что? Ни рыба ни мясо…
— Ты, курощуп, держи язык покороче, а то я заверну тебе башку назад бельмами, — всегда одно и то же отвечал Гвоздь.
— Пусть курощуп, а захочу — твоя Любка будет бегать за мной, как собака за возом.
— Куда ты гож? Левольвер свой отдам, ежели окрутишь Любку.
— А что думаешь… Сказал — сделаю!
Федька, конечно, говорил это не всерьез. Не нужна была ему толстушка Любка. Потихоньку от всех он вздыхал по Уле, тосковал по ее голосу. Случалось, Уля снилась ему во сне, и весь следующий день Федька ходил угрюмый, неразговорчивый. Думки о богатстве, выпестованные дома, тускнели и блекли… У анархистов жизнь, правда, легкая, без забот, но капиталу тут не наживешь. А работать пойдешь — тоже дурных денег никто не заплатит. Без денег же не видать Ульки, не отдадут ее за голодранца.
На Любку Федька не обращал никакого внимания. Бывал у нее с Савкой не один раз, шутил с ней, разговаривал, но красива ли она — не мог бы сказать. А после спора с Гвоздем вдруг разглядел, что Любка — девка хоть куда, завлекательная, можно сказать. Особенно, когда смеется. Зуб один обломан немного, но это ей даже идет. Савку ни в грош не ставит. Куражится над ним, над трезвым, а пьяного боится. Об Артемке что-то часто спрашивает: почему да отчего не приходит… Отбить ее у Гвоздя стоит. К тому же он посулил револьвер… Со всех сторон дело выгодное. Но как быть, когда Савка все время около нее кружится?
Недаром, однако, Федька считал, что он родился в рубашке. Ему всегда везло. Повезло и на этот раз.
Анархисты часто ездили за продовольствием в волости. Хорошо вооруженные, на десятках подвод, они, прибыв в село, требовали с крестьян «революционную контрибуцию» молоком, мясом, мукой-крупчаткой.
В один из таких отрядов и назначили Савку с Федькой. Узнав об этом, Федька срочно заболел. Когда за ним пришел Гвоздь, он лежал на кровати, охал, стонал. Отряд, само собой, не стал ждать, когда он поправится…
Вечером, почистившись для порядка, Федька заявился к Любке.
— Ты еще живой? — спросила она. — А Савка говорил — вот-вот богу душу отдашь.
Любка сидела на кровати, поджав под себя босые ноги, и что-то шила.
— Оздоровил, — Федька разделся. — Твой Гвоздь скорей меня окачурится.
— С чего он мой-то? — Любка откусила нитку, отложила шитье в сторону и пошла кипятить чай.
Сели ужинать.
Федька говорил и говорил. Он и сам не знал, откуда бралась такая прорва слов. Любка грызла мелкими белыми зубами сахар, подливала чай в Федькин стакан и молча слушала.
— О Савке скучаешь? — спросил Федька.
— Не. Тебя слушаю…
— Что ты в нем нашла? Хорошая девка такого на три шага не подпустит.
— Откуда взял, что я хорошая? Была бы хорошая, с этими не водилась бы. Это ты прилип к ним. Ворюгой либо пьяницей сделаешься. Твой товарищ-то умнее. Сразу учуял, что тут дело пахнет керосином.
Напившись чаю, Любка опять забралась с ногами на кровать. Федька присел рядом. Ноги у Любки были толстые, в золотистых волосах, пятки круглые и желтые, будто пасхальные яйца. Федька ногтем провел по одной пятке, она была твердая и шершавая.
— Я щекотки не боюсь, — сказала Любка.
— Нисколько? — Федька обнял ее. Сквозь тонкую рубашку почувствовал под рукой мягкое и горячее тело. Любка осторожно отвела руку, кивнула на окно головой.
— Увидит кто-нибудь из наших, дадут тебе нагоняй… Больные дома лежат, не ходят по девкам…
— Это ерунда! — Федька шагнул к столу и потушил лампу. Любка от неожиданности охнула, а потом засмеялась. Из темноты до Федьки донеслось:
— Вот бы Савка сейчас вернулся. Уж и дал бы он тебе горячих на закуску.
Перед Федькой на мгновение возник образ Ули, но он постарался отогнать его от себя. Горячие ласки Любки опьянили его, заставили забыть все на свете. Незаметно пролетели три дня, а придя на четвертый, он застал у Любки Савку. Тот лежал на Любкиной кровати и охал. Голова у него была повязана окровавленной тряпкой. Незнакомое до этого чувство ревности опалило душу Федьки. С ненавистью посмотрел он на бритое лицо Савки и почувствовал во рту неприятную сухость.
Любка стояла у изголовья кровати и насмешливо улыбалась. «Обожди, я тебе набью харю, паскуда», — подумал Федька и молча сел на шаткую табуретку.
— Выздоровел? — сипло спросил Гвоздь. — А я, брат, слег. Ох, и болит голова! Любка, ты бы тряпку положила. Стоишь, как бурхан бурятский, и не видишь моих страданиев.
— Опять самогонки нализался и мордобитие устроил?
— Какая там самогонка? Благодари бога, что брюхо у тебя схватило, а то бы тоже лежал сейчас, как я. Семейские отлупили. Не хотят давать нам больше ничего, подлые.
В конце семнадцатого и в первые месяцы восемнадцатого года анархисты в Верхнеудинском уезде чувствовали себя привольно. На первых порах мужики безропотно отсыпали из своих закромов и сусеков зерно, вынимали из-за божиц завернутые в тряпицы деньги, отсчитывали рубли на «алтарь защиты равенства и братства». Но скоро увидели, что «защитники свободы» сами съедают продукты, пропивают деньги, и, завидев черное знамя, стали вешать на амбары замки, прятать деньги. Получать продовольствие, фураж, деньги становилось все труднее. Однако с порожними подводами анархисты пока не возвращались. Это случилось впервые. Приехали не только с пустыми руками, но с синяками и без оружия — мужики отобрали.