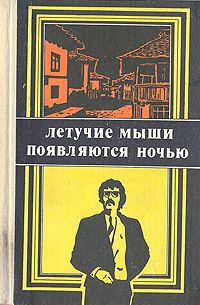Мухтар Ауэзов - Путь Абая. Том 2
Порою Иса приходил в ужас при мысли о том, как живет его семья. Он вздыхал, метался на своей подстилке, в беспомощной ярости царапал грудь, терзаемую болезнью и неизбывным горем. И когда однажды Ийс присела к его изголовью, Иса не выдержал:
— Родная моя, как тяжело нам… Так и кончается жизнь, как прошла, — у чужого порога… Что станет теперь с тобой, с детьми, с нею? Неужели так и умру с этим горем? Если хотя бы знать, что оставляю вас у добрых людей, а не у этих зверей…
Женщины, напуганные словами Исы, громко зарыдали. Заплакали и малыши. Иса чувствовал горячие слезы, падающие на его руки, но сказать больше ничего не мог: он пылал в жестокой горячке, потеряв сознание.
Тяжкий бред мучил его, запекшиеся губы шептали что-то невнятное. Нагибаясь к нему, мать и жена улавливали какие-то бессвязные слова. Казалось, он с кем-то гневно борется, упорно и страстно спорит. Но понять, что с ним, они не могли.
А Исе мерещилось, что он ведет нескончаемую борьбу один на один с огромным матерым волком. Все время видит он перед собой наседающего на него лютого зверя. Пасть его открыта, зубы оскалены, кровожадный враг вот-вот схватит зубами его лицо. Потом кровь заливает всю морду волка. И сейчас же чудится, что кровавая рана на голове хищника повязана белым платком, а под раскрытой страшной пастью с острыми зубами вдруг возникает широкая черная борода… Красные губы шевелятся, волчья пасть произносит бранное слово… Кто-то ударяет Ису тяжелой палкой… он хватается за палку, тянет ее к себе, и волк превращается в Азимбая. Он ругает Ису, безжалостно гонит в холодную буранную мглу за овцами и сноза становится матерым волком… То волк, то Азимбай… То наполовину волк и наполовину Азимбай… Но все время наседает на него безжалостный, неотвязный враг, угрозы вырываются из страшной пасти…
Измученный этими ужасными видениями, Иса потерял сознание. Больше оно уже не возвращалось к нему. К утру его дыхание перешло в предсмертный хрип, и скоро он лежал без движения, безмолвный, постепенно холодея.
Так на шестой день болезни скончался безвестный человек с большим сердцем, отважный жигит.
Рядом без памяти лежала несчастная мать. Безутешно рыдала больная вдова. И надрывно плакали в углу маленькие Асан и Усен.
5О разгроме такежановского табуна в ауле Абая узнали в тот же вечер.
Когда Азимбай и табунщики бились за коней, здесь, в Акшокы, друзья и ученики Абая с увлечением вели беседу о поэзии. В последнее время Абай часто перечитывал Лермонтова, особенно его «Вадима». Абая привлекал образ непокорного человека, пылающего мстительным гневом. И нынче он заговорил о нем:
— Казахи должны знать об этом Вадиме. Отважный, упорный, смелый герой… Я задумал воспеть его в стихотворном дастане.
И Абай прочел друзьям свои новые стихи. Мужественные, строгие, полные сдержанной силы, они начинались тревожным видением.
Темнеет свод неба. На западном крае
Пожар уходящих лучей догорает,
И на алеющем шелке заката
Дальняя башня, как сон, возникает…
Какитай, уже прочитавший «Вадима», по просьбе Абая пересказал акынам это произведение. Когда он закончил, Абай обратился к юношам:
— Просторный путь откроется перед вами, если будете писать дастаны, как Лермонтов… Магаш, Какитай, вы можете читать по-русски, так возьмите поводья других, поведите их! Расскажите о нем Дармену, Кокпаю, Акылбаю, пусть и они узнают, какой это поэт!
И молодежь, оставив Абая наедине с томом Лермонтова, до вечера просидела в угловой комнате над «Демоном». Одни прочли его сами, другие услышали поэму во взволнованном пересказе. Тотчас же возникла горячая беседа. Все новое всегда вызывало молодых акынов на споры, размышления, мечтания. Нынче мысли их занимали Демон и Тамара. Дармен и Магаш вспомнили о мусульманском Демоне — об Азраиле. Огненная страсть, которой наделила его фантазия русского поэта, поражала их.
— Какая отважная мысль… Только непокорная душа могла родить такой образ! — говорили они.
— Видно, истинное поэтическое вдохновение не считается ни с богом, ни с законами судеб! — восклицал Какитай.
Возбужденные разговоры не прекращались до самого вечера. Лишь к вечернему чаю молодые акыны вновь сошлись в камнате Абая.
Как раз в это время появился Акылбай. Он жил уже на отдельной зимовке, находившейся в урочище Миалы возле поселка жатаков, в половине дневного перехода от Акшокы, но часто приезжал к отцу. Поздоровавшись, Акылбай подсел к молодежи. Абай спросил, что слышно, все ли спокойно в аулах и на равнине.
Акылбай, как всегда, не спеша, обычным монотонным голосом сообщил поразившую всех весть:
— Да нет, не все. Нынче утром целая куча неведомых врагов напала на выпас Такежана-ага возле гор Шолпан. Всех коней угнали, до одного.
Со всех сторон на него посыпались вопросы:
— Когда?
— Откуда?
— Весь табун угнали?
Чай остался недопитым. Айгерим и Злиха, сидевшие у самовара за низким круглым столом, тоже придвинулись к Акылбаю. Жигиты нахмурились. Тревожное чувство охватило всех.
Акылбай по-прежнему медленно и не торопясь рассказал все, что знал: нападение было утром, в набеге участвовало около полусотни людей, больше двадцати табунщиков получили тяжелые ушибы, даже ранения, Азимбая нашли на снегу без памяти, из табуна в восемьсот коней на выпасе не осталось ни одной клячи. Сам Акылбай находился во время набега в шалаше такежановских табунщиков; он заночевал там по пути в Акшокы, и его конем, единственным уцелевшим в этом разгроме, воспользовались, чтобы послать за помощью. Пострадавший меньше других табунщик поскакал в ближайший аул и пригнал оттуда трех лошадей. Поэтому-то Акылбай и появился в Акшокы так поздно.
— Ну, а ты-то что делал, когда на выгоне шел бой? — спросил Абай.
Акылбай начал мямлить. Наконец выяснилось, что еще утром Азимбай, собираясь к табунам, предложил ему поехать вместе с ним. Акылбай отказался не столько из-за лени, сколько из-за своего пристрастия к горячему кавардаку — обычному кушанью табунщиков на полевом стане. Заметив, что поваренок как раз начал поджаривать в ковше мясо, Акылбай предпочел остаться в шалаше, чем мерзнуть на выгоне.
Несмотря на тревогу, которую вызвало сообщение Акылбая, молодежь не смогла удержаться от смеха.
— А как же ты узнал, что на табун напали? — спросил Ербол.
— Когда я принялся за кавардак, поваренок вышел из шалаша, но тут же вернулся и говорит: «На земле шум, на небе шум. Уж не волки ли напали на косяк? Или Азимбай вздумал гоняться за дикими жеребцами? Столько снегу подняли! Прямо как пурга!» Я хотел выйти посмотреть, но побоялся, что кавардак остынет, — больно хорош он вышел! Из бедра жеребенка… и порезан хорошо — мелкими кусочками… так в сале и плавает!
На полном лице Акылбая выразилось такое удовольствие, что Дармен затрясся от хохота. Засмеялся и Магаш.
— Ну, понятно! Куда же вам было торопиться? Должен же человек доесть кавардак! Узнаю нашего Акыл-ага!
Теперь расхохотались и остальные: вялость и лень Акылбая были всем известны. Акылбай, не обращая внимания на смех, продолжал свой неторопливый рассказ:
— Поваренок то и дело выглядывал из шалаша, видно ему не терпелось узнать, что там творится. Пришлось послать его посмотреть. Он вернулся с неистовым криком. «Акыл-ага, налетели враги, угоняют коней! На выгоне драка! — кричит. — Табун уже у гор Шолпан… Что делать?»
Абай внимательно посмотрел на него и спросил:
— Ну, и как ты поступил?
— Сели на коня и пустились в погоню? — нетерпеливо подсказал Магаш.
Акылбай откровенно ответил:
— Нет. Продолжал есть кавардак. Я ждал кого-нибудь с новостями.
Абай, потеряв терпение, грозно окрикнул его:
— Подумай, что ты там несешь? Опомнись!
— Не могу же я врать, Абай-ага. Не погнался я за ними!
— Почему? Что же, ты не мужчина?
— Если говорить правду, я поленился…
Взрыв хохота перебил его. Однако Акылбай, не смутившись, продолжал с удивительной искренностью:
— Косяки уже успели угнать за Шолпан, а снегу в степи навалило по колено. Как же мне гнаться за ними? Раньше, чем в Ералы, я их не догоню, куда же скакать в такую даль? И в зимней неудобной одежде? Это просто наказание! Ну, а потом, что я сделаю один? Смогу только умолять и просить… Да и вообще — зачем нужно мне быть лихим воякой и побеждать в боях?
Акылбай говорил то, что думал, напрямик, не беспокоясь о том, как примут его слова, не обращая внимания на смех слушателей. Магаш и Какитай первые перестали смеяться: оба они огорчились за брата, честного, но наивного, который своей бесхитростностью и откровенностью поставил себя в такое смешное положение. К тому же, заметив, как изменилось лицо Абая, они с опасением ждали, что тот сурово пристыдит сына. Но Абай с неожиданным любопытством уставился на него, как бы рассматривая его с удивлением, и вдруг от души рассмеялся.