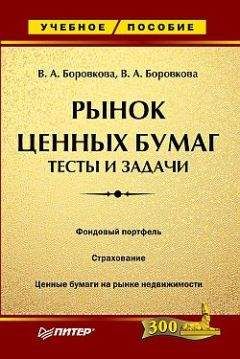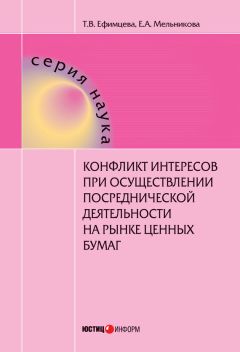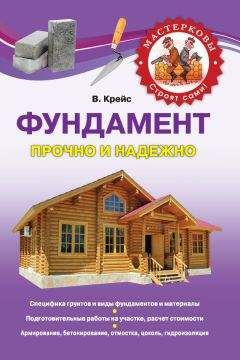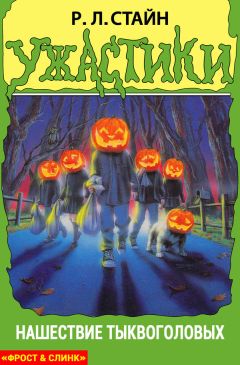Юрий Герман - Россия молодая
— Уворуешь червонцы — повешу! У меня суд скор и строг, шутить не люблю, на сивую бороду не взгляну…
Рыбаки обиделись все трое. Младший, Степан, сказал старику:
— А ну его и с золотом, дядя Онуфрий. За сии монеты и беседу не зачнешь, а он еще грозится. Пущай обратно берет… Где кто постарше, царь, что ли?
Меншиков засмеялся, хлопнул Худолеева по плечу, произнес примиряюще:
— Полно тебе, дядечка! Говори толком, сколько денег давать? Мне на дело не жалко, я порядок люблю, понял ли?
На рассвете, в холодном, сыром тумане, Рябов из-за мыска вместе с тремя рыбаками вышел на верейке делать промеры, чтобы флот, когда отправится на правый берег, не застрял на мелях. Онуфрий Худолеев посмеивался:
— Не верите нам, черти. Мы как говорим, так оно и есть…
Иван Савватеевич мерил сначала шестом, потом веревкою с камнем. Степан да Семен напамять перед промером говорили глубину. Все сходилось точно. Онуфрий, определив по ухваткам в Рябове моряка, спросил:
— Ты-то откудова такой уродился, дядя?
— Придвинские мы, с Белого моря…
— Ишь… Это к вам шведы большим флотом пришли — жечь город ваш? Что-то болтали здесь в Ниене.
Рябов пожал плечами, вздохнул:
— А откудова мне ведать?
Шведская пуля цокнула в корму верейки, другие злым осиным роем пропели над головами рыбаков. Онуфрий Худолеев пригнулся, удивился:
— По нас бьют?
— По нас, дядечка. Война, вишь! — со смешком ответил Рябев.
Утром в балагане Иевлева Рябов рассказывал про здешних мужиков, что смекалисты и ничего не врут — свое дело знают. Можно верить сим троим сполна.
Ладожских рыбаков Худолеева да Степана с Семеном отпустили к делу почетно. Сильвестр Петрович сказал им доброе напутствие, дал по ножу белой стали, компас, по два листа бумаги — замечать на ней шведские укрепления. Онуфрий, прощаясь, сказал:
— Нашего брата, русского мужика, здесь немало. Живут — хуже нельзя. Вроде и не человеки — божье подобие, хуже скота. Ты, господин контр-адмирал, теперь жди — прослышишь наши дела…
От громкого разговора проснулся Ванятка, которого Сильвестр Петрович взял к себе в балаган, проводил взглядом уходящих незнакомых мужиков, потянулся сладко и рассказал:
— А я, тятя, теперь барабанщиком буду. Ей-ей! Давеча дядечка Александр Данилыч мне повстречался. «Ты, говорит, для чего дарма царев хлеб заедаешь? У нас так не водится. Служить надобно…»
Иевлев подтвердил:
— Верно, так и было: Меншиков велел…
— Кафтан, приказал, чтоб мне справили…
— Наука большая, — сказал Рябов. — Не враз совладаешь. Да и барабан где взять, небось лишних нету…
— Барабан отыщем! — пообещал Ванятка и стал обуваться.
День опять прошел в работах: укрепляли батареи, подвозили ядра, перетаскивали просекой последние лодьи. Петр с Шереметевым, Репниным и Меншиковым сидел в низком, наскоро построенном шалашике, сжав черенок трубки крепкими зубами, раздумывал над планом Нотебурга, намечал, где быть батареям по правому берегу, где ставить летучий мост через Неву, откуда идти лодкам охотников, когда начнется штурм. Считали пушки, исправные лодьи, сколько солдат можно нынче отправить в бой.
— Пушек имеем нынче восемьдесят восемь, — сказал Шереметев, — солдат с матросами более двенадцати тысяч. Располагаю — в ближайшее время начнем бомбардирование…
— Чтобы сикурсу с Балтики им, иродовым детям, не подали! — грызя ногти, сказал Меншиков. — Отрезать надобно намертво…
Репнин подошел к Петру, пальцем показал на карте, где следует переплывать нынче Неву, чтобы взять шведский редут.
Ночью, в кромешной тьме ударили дробью, раскатились барабаны. Солдаты, зарядив мушкеты, спрятав запасные заряды за щеку, бегом, напирая друг на друга, шли к воде, подымались на помосты лодей, стискивались плотно один к другому. Печально, уныло, пронзительно завывал осенний ветер. Лодьи покачивались, скрипели, бились бортами друг о друга. У берега прапорщики и поручики перекликались:
— Готова-а!
— Сполна-а-а!
— Все здесь!
Сильвестр Петрович поднялся на помост своей лодьи, велел барабанщику бить поход. Барабан продребезжал коротко, пятьдесят огромных лодей отвалили от берега, строем пошли через реку. Здесь, над шведскими шанцами, грозно шумел лес…
Лодки с тупым шелестящим звуком тыкались во вражеский берег, солдаты прыгали с помостов в камыш, в воду, в прибрежную тину. Слева, из темноты, донесся громкий голос Петра:
— Живо, молодцы, живо, не отставать! Взводи курки! Пальба плутонгами…
Шведы все еще молчали.
Сильвестр Петрович, позабыв про больную ногу, спрыгнул в воду, поднял над головой пистолет, чтобы не замочить замок; опираясь на трость, побежал к берегу. Сзади, карабкаясь по обрывчику, ругался Шереметев, Репнин с тяжелым палашом в руке обогнал Иевлева.
— Багинетом коли! — кричал Петр. — Наш Орешек, ребята, наш! За мной, быстро…
При вспышках выстрелов навстречу Иевлеву словно бы неслись высокие черные сосны, березы, рогатки шведских шанцев, полыхающие огнем стволы мушкетов. Меншиков был уже там — рубился саблей. Солдаты, кряхтя и ругаясь, дрались во рвах, в которых засели шведы. Иевлев спрыгнул туда, ударил жилистого шведского офицера тростью по голове, упал, поднялся, побежал дальше, отыскивая врагов, но их больше не было.
Барабаны по приказу Петра выбили отбой, баталия кончилась, правый берег принадлежал русским. Петр, стоя на курганчике, рукою в перчатке показывал, куда ставить пушки для обстрела крепости. Егор Резен с ним спорил, другие иноземцы-артиллеристы соглашались. Сильвестр Петрович подошел, оперся на плечо Резена, вслушался. Петр вдруг кивнул — согласился с Резеном.
— Здорово, Егор! — сказал Иевлев.
— Здорово, — торопливо ответил Резен.
И убежал к своим пушкарям.
Сильвестр Петрович утер потное лицо, огляделся: над Невою, над плоскими ее берегами, над свинцовыми конусными кровлями крепости, над павшими в бою и над живыми занималась утренняя холодная багровая заря…
3. Мичман корабельного флота
— Ну? Чего деется? — спросил Петр, входя в шатер.
— А ничего и не деется, — позевывая и почесываясь, ответил Меншиков. — Спину чегой-то заломило после нынешней баталии. Я в горячке-то не приметил, а мне некий швед, курицын сын, багинетом али прикладом ружейным в межкрылья въехал. Веришь не веришь, мин гер, ни согнуться, ни разогнуться. Может, черева отбиты?
— Ты не жалобись, либер Саша, — сказал Петр. — У которого человека черева отбиты — более молчит, а ты ровно сорока. Ничего, жить будешь вдосталь, коли не повесим тебя… Еще чего нового?
Меншиков подумал, потом вспомнил:
— А еще, мин гер Питер, наши рыбаки ладожские, докладывал я тебе давеча о них, которые к шаутбенахту Иевлеву бывали, привели-таки русских полонянников. Откупили у шведов. Золотишко-то я давал, помнишь ли?
Петр про золотишко пропустил мимо ушей. Александр Данилыч кашлянул, рассказал, что россияне доставлены сюда, в лагерь, сидят в балагане у Иевлева. Один — дворянский недоросль Спафариев — был послан за море через Архангельск, да не угадал, как раз перед шведским нашествием его оттудова Сильвестр Петрович завернул на сухой путь. С сим недорослем денщик-калмык кличкою Лукашка…
Лил проливной, с завываниями, осенний дождь. Над Ладожским озером, над невскими рукавами, над осажденной крепостью Нотебург, над всем огромным русским лагерем визжал ветер. Полог царева шатра набух, капли падали на стол, на карты и бумаги, огненные язычки свечей вытягивались и коптили. Было холодно, сыро и неприютно.
Петр, швырнув плащ на постель, кряхтя стал снимать облепленные грязью, тяжелые ботфорты. Александр Данилович почесывался, вздыхал, сетовал, что боль в межкрыльях делается с каждою минутой все нестерпимей, а тут и бани нет — попариться толком.
— Не нуди ты для бога, Санька! — ложась на походную, жесткую постель и с наслаждением вытягивая ноги в красных протертых чулках, попросил Петр. — И что ты за человек небываемый: ну сделал дело, все то видели, ероем шведа бил, воздается тебе, ведаешь сам, а тянешь с запросом. Не отбиты у тебя, собаки, черева, и не думаешь ты того, а жилы мои мотаешь…
— Не вовсе, а отбиты! — упрямо сказал Меншиков.
— Врешь, пес! И никакой швед тебя в межкрылья не бил…
— Ан бил!
Петр скрипнул зубами.
Повар Фельтен принес кусок холодной говядины, сухари и кувшин с вином.