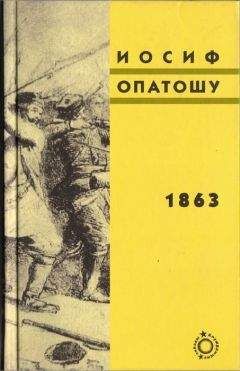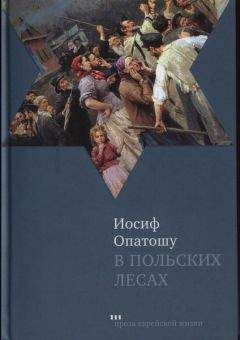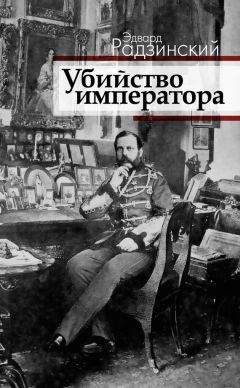Иосиф Опатошу - Последний в семье
— За кем?
— За Товяньским. Своим мессианством он оказал влияние на всю польскую интеллигенцию первой половины девятнадцатого века. Мицкевич, Крашиньский и отчасти Словацкий обожествляли его, прислушивались к каждому его слову, слепо следовали ему, как благоверный еврей Торе. Возможно, это был последний пророк нашего времени.
— Почему люди с возрастом становятся верующими? — вдруг спросила Сорка. — Из страха смерти?
— Не думаю, чтобы мой друг боялся смерти, — улыбнулся Кроненберг. — Нельзя так сказать о человеке, не раз смотревшем смерти в лицо. Я знаю, что он долго был революционером, застрелил несколько человек. По-человечески можно понять, что он в конце концов пожалел об этом, разочаровался в близких людях и принес покаяние. Почти все самые выдающиеся лидеры той революции, если не были убиты, покаялись. Только демагоги или дураки способны всю жизнь верить, что спасение придет от рук пролетариата. Хотите другой пример? Возьмите вашего отца, — сверкнул глазами Кроненберг. Его рот, полный острых зубов, напомнил орлиный клюв.
Он замолчал, прикрикнул на лошадей, раскрыл рот, будто о чем-то вспомнив, и обернулся к Сорке:
— Я вам сейчас кое-что расскажу, и вы поймете, что за человек мой друг. Когда тот вернулся из Сибири сломленным и больным, Рутковский, тоже бывший революционер, пригласил его с женой в гости. К тому времени они прожили вместе несколько недель. Мой друг заметил, что между его молодой женой и Рутковским что-то происходит. Что бы сделал другой на его месте? Устроил скандал, уехал с женой, если бы смог, поколотил бы Рутковского, как это обычно бывает. Мой друг подождал немного, пока за столом остались только близкие знакомые, подвел жену к Рутковскому и сердечно попросил, целуя им руки, чтобы они не чувствовали неловкость в его присутствии. Он говорил, что они останутся друзьями, что он не будет стоять у них на пути, а, наоборот, будет счастлив доставить удовольствие своим близким. Он сделал это так по-детски, так трогательно, что у сидевших за столом навернулись слезы на глаза. Не знаю, что творилось у него на душе, я бы не был способен на такое, но с того вечера он относится к бывшей жене и к Рутковскому как к брату и сестре и свободно чувствует себя в их присутствии. Целыми днями он читал Библию, пророчества Товяньского и выдержки из поэмы Мицкевича «Дзяды».
Сорка была тронута, понимая, каким надо быть сильным, чтобы решиться на такой поступок. А почему должно быть иначе? Он болен, сломлен жизнью, а жена молода. В идеалах, к которым они вместе стремились, уже давно наступило разочарование. А Рутковский наверняка молод, и, если они любят друг друга, почему нужно им мешать? Однако ей было трудно себе представить, что речь идет о еврейской девушке.
Они замолчали и придвинулись поближе друг к другу. Сани быстро неслись, и чем дальше они заезжали в лес, тем темнее становилось вокруг. Зловещее карканье ворон, сидевших, задрав клювы, на голых заснеженных деревьях, разносилось по лесу.
Сорка почувствовала на себе взгляд Кроненберга и услышала его слова:
— Вы ждали меня?
— Нет.
— Не хотите признаваться.
— Как вам такое пришло в голову?
— Сам не знаю. Но я уверен…
— В чем?
— Что… Вороны — это проклятые души.
— Скажите, в чем? — капризно сказала Сорка и взяла его за руку.
Он не ответил, приложил руку к губам и долго целовал ее.
Сорка не отняла руки.
Кроненберг повернул назад. Почти всю дорогу до дома они молчали, и молчание еще больше сближало Сорку с Кроненбергом, она чувствовала, как тысячи невидимых нитей привязывают ее к нему. Кроненберг подвез Сорку к дому, помог вылезти из саней и поклонился:
— Теперь поеду навещу своего друга.
— Передавайте ему привет.
— Если вы не возражаете, я приеду еще сегодня вечером.
— Приезжайте.
— До встречи.
Борех ничего не мог поделать. Почти каждый вечер, приходя домой из леса, он заставал у них Кроненберга. Первый раз, когда Борех вошел к Сорке и увидел его с непокрытой головой, он так растерялся, что начал заикаться, хотел выйти из комнаты и от большого смятения снял шапку.
— Ты знаком с господином Кроненбергом? — пришла на выручку ему Сорка.
— Конечно, мы знакомы. — Борех подошел и пожал Кроненбергу руку.
Борех приободрился, по-хозяйски подвинул стул, присел ненадолго, снова встал и, глядя на Сорку, спросил:
— Может, выпьем чаю?
— Хорошо. — Сорка закуталась в турецкую шаль. — Будь так добр, вели подать.
Борех вскочил, как слуга, старающийся угодить хозяйке, и, ничего больше не спрашивая, быстрым шагом вышел из комнаты.
Сорка заметила, что Кроненберг ищет ее взгляда, и нарочно отвела глаза, теребя бахрому шали. Потом вдруг подняла глаза, встретилась взглядом с Кроненбергом, оба замерли на мгновение, потупились и поняли нелепость ситуации.
Борех принес чай с вареньем, уселся поудобнее и кашлянул.
— До ольшаника не дойти!
— Что вы имеете в виду?
— Так скользко — на ногах не устоишь.
— Ничего, через неделю-другую погода переменится.
— Вы все-таки собираетесь продавать участок леса за кладбищем? — Борех старался поддержать разговор.
— Я не знаю.
— Ваш лесник мне только что рассказал.
— Может быть.
Беседа не складывалась, Борех умолк, досадуя, что не умеет общаться с людьми. Он хотел что-то сказать, но чем дольше затягивалось молчание, тем труднее было начать. Борех выпил чай и стал глядеть на Сорку и Кроненберга, постукивая ложечкой по пустому стакану. Он чувствовал себя лишним, но решил не уходить, ведь он здесь хозяин, и если гость к нему пожаловал, будь он даже сам царь, пусть не сидит надувшись. Борех встал:
— Извините меня, господин Кроненберг, мне очень жаль вас покидать, чувствуйте себя как дома. — Борех обратился к жене: — Гостей надо угощать, а не сидеть за пустым столом. Что скажете, господин Кроненберг?
— Ничего страшного…
— Доброй ночи!
— Доброй ночи.
Когда он вышел, Сорке и Кроненбергу еще долго казалось, что он стоит за дверью и прислушивается к тому, что происходит в комнате. Они молчали, пару раз переглянулись с улыбкой и продолжали сидеть молча. Через некоторое время Кроненберг поднялся.
— Вы уже уходите?
— Пора.
— Почему вы так спешите?
— Сам не знаю.
— Посидите еще.
— Нет, пойду. Я человек настроения. — Он подошел к Сорке и подал ей руку. — Доброй ночи.
Она ответила легким кивком, посмотрела, как он уходит, и долгое время не отводила глаз от проема двери, будто в нем остался его силуэт. Отъезд Кроненберга нагнал на Сорку тоску, она расстроилась, что не попросила его приехать снова, и чувствовала, как дрожит всем телом. Внезапно ей стало так тесно и душно, будто в комнате нечем было дышать. Все вокруг давило и угнетало, хотелось кричать. Борех открыл дверь, просунул голову и, увидев состояние Сорки, приблизился к ней:
— Что такое? Тебе плохо?
Сорка не ответила, откинула голову на спинку стула и расплакалась.
Борех поцеловал ей волосы, упал в ноги и стал умолять:
— Сорка, я тебя заклинаю, скажи, что с тобой? Сорка, тебя кто-то обидел?
— Оставь меня.
— Тогда скажи мне, почему ты плачешь?
— Я тебе не скажу.
— Ты мне скажешь!
Она не ответила и заплакала еще громче. Борех не знал, что делать, и стоял, беспомощно ломая руки:
— Сорка, Сорка… Что тебе от меня нужно? Скажи, я все сделаю, только не плачь!
— Разведись со мной.
— Ты шутишь? — Борех вытаращил глаза.
— Нет, я серьезно. — Она подняла голову.
— Зачем разводиться, если я тебя люблю?
— Но я-то тебя не люблю!
— Ты полюбишь меня.
— Никогда!
— Так кого же ты любишь?
— Никого.
— Ты любишь его?
Сорка поняла, что Борех имеет в виду Кроненберга, хотела ответить «да» и взяла его за руку:
— Клянусь тебе, что никого не люблю!
Прикосновение ее пальцев смягчило Бореха. Он присел рядом с ней:
— Теперь, когда ты будешь матерью…
— Теперь!
— У тебя нет ко мне никакой жалости?
Сорка не ответила, положила голову Бореху на плечо, они обнялись и заплакали.
С того вечера они словно избегали друг друга и почти не разговаривали. Встречая Кроненберга, Борех так радовался, что тот всегда терялся, чувствовал себя виноватым и не мог и слова вымолвить в его присутствии. Борех каждый раз из вежливости сидел с Кроненбергом несколько минут и всегда заводил одну и ту же беседу:
— Вы все еще не начали вырубать лес?
— Не начали, говорите? — Кроненбергу очень надоел этот разговор, ему часто казалось, что этот хасидский юноша не так уж и глуп и насмехается над ним, нарочно выводит его из себя, беседуя о деле.
— А разве начали?
— Я не знаю.
— Вы совсем не интересуетесь своим собственным делом?