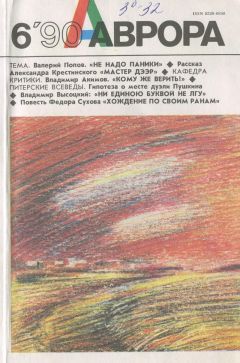Даниил Мордовцев - За чьи грехи?
Ивашка знал персидский язык — и все слышал…
Разин воротился с воеводской пирушки очень поздно. Его встретил есаул Ивашка, и, отведя в сторону, долго шептал ему что-то. Движения, которые делал атаман, слушая своего есаула, и порывистое дыхание его богатырских легких обнаруживали, что он глубоко взволнован.
Войдя потом осторожно в горенку Заиры, он, при свете сильно нагоревших восковых свеч канделябры, увидел, что девушка, горько наплакавшись, уснула тут же на ковре невинным сном младенца. На длинных ресницах ее еще блестели слезинки. Рядом с нею спала собачка — и та не проснулась.
Разин стал перед нею на колени и с глубокой нежностью и тоскою долго смотрел на милое личико ребенка.
Из Астрахани доносился одинокий гул церковного колокола: то на соборной колокольне били полночь. Было тихо кругом. Слышно было только, как журчала волжская вода под килем струга и плескалась около его крутых боков.
Разин с нежностью трижды перекрестил спящую девушку, с глубокой мольбою поднял глаза к небу, встал с ковра, тихо потушил свечи канделябры и неслышными шагами вышел в свою каюту.
XXI. «На ж тебе— возьми!»
На другой день все заметили, что атаман был как-то особенно задумчив. Иногда он встряхивал своей курчавой головой, как бы отгоняя от себя докучливую мысль. То иногда подолгу останавливался у борта своего струга и как бы бесцельно глядел куда-то вдаль, ничего не видя.
Он, однако, с утра отдал приказание своему есаулу, Ивашке Черноярцу, все приготовить для предстоящего пира, так как он ожидает к себе в гости воеводу, князя Прозоровского, его товарища, князя Львова, и некоторых других представителей власти.
— Чтобы пир был на славу! — сказал он.
Вчерашнее сообщение о подслушанном им у Заиры и о том, что он вообще видел, глубоко поразило Разина. Конечно, он далек был от мысли, чтобы его маленькая Заира была не искренна, чтобы она обманывала его, — он этого никогда бы не допустил! Она такой ребенок! так наивна в своих ласках и признаниях, так неопытна. Но это же самое может и отнять ее у него, а он так полюбил этого ребенка. Ведь она же, по-видимому, не понимала вчера, какие чувства заставляли Хабибуллу утешать ее, гладить по головке, обнимать; она принимала эти утешения и ласки мужчины, как ласки няни. Но в ней могла проснуться от этих ласк и женщина, как она проснулась в ней от его ласк, — и все это будет в ней невинно, искренно, и сама она не сумеет дать себе отчета в своих чувствах. Как ему обвинить ее за это? как обвинить ребенка, который тянется к огню, не зная, что такое огонь!
И как же после этого на такой зыбкой почве основывать свое счастье!
Теперь Разин только в первый раз задался этой мыслью. Конечно, мысль эта в душе казака слагалась в иной форме. Но он в данном случае думал так же логически, как и всякий другой умный человек думал бы на его месте: человеческая логика и в XVII веке доходила до известных умозаключений тем же путем, как и теперь, особенно же в области чувства. А Разин был, бесспорно, умный человек, богато одаренная натура, которая, смотря по обстоятельствам, могла быть направлена и на величайшее добро, и на величайшее зло.
Случайная любовь к такому невинному, чистому созданию, как Заира, повернула его на добро, разбудила в его богатой душе лучшие, благороднейшие ее силы. Он разом сделался добр, мягок, возненавидел жестокость, грубость. Он перестал пить.
И вдруг вчерашний случай чуть не разбудил в душе прежнего Разина-зверя. Он шел в каюту своей милой девочки, чтоб растерзать ее за одно прикосновение к презренному татарину-ренегату. Но когда он увидел ее невинное спящее личико с остатками слез на ресницах, он стал перед нею на колени и с материнской нежностью и благоговением стал крестить ее.
Что же будет дальше? Неужели для такого непрочного хрупкого счастья он должен отречься от самого себя, проститься со славою, с властью, с громкими подвигами? Он, атаман целого войска и брат казненного атамана же, — неужели он должен отказаться от всего, даже от мести за позорную смерть брата, и похоронить себя заживо в глухой донской станице или на каком-нибудь хуторке!
А отказаться от нее, от этой милой девочки, от своего счастья, чтоб это милое дитя досталось какому-нибудь презренному холопу Хабибулле, а не ему — так другому! Он чувствовал, что это выше его сил. Он так любил ее! Для нее он решился пожертвовать славой, для нее он позорно преклонил свой бунчук перед воеводой, которого он мог когда угодно повесить; он все для нее бросил. Когда он держал ее в своих объятиях, а она, ласкаясь к нему, шептала самые нежные слова, он искренно решился всем пожертвовать для нее.
И теперь уступить ее другому! Нет, пусть лучше она никому не достанется: та, которую он ласкал, не должна знать ласк другого мужчины.
Муки иного рода переживала теперь и Заира.
«А что, если в самом деле он любит другую?» — думала она, поздно проснувшись в своей хорошенькой каютке. Хотя, по ее восточным понятиям, мужчина мог любить разом нескольких женщин, и она видела это в своем отце, у которого был сераль и который приближал к себе и хорошеньких рабынь, но ее чистая привязанность возмущалась одною этою мыслью. «Разве она сама может полюбить кого-либо другого, кроме своего повелителя-атамана? Нет, никогда!»
И она робко выглянула из окошечка своей горенки. Атаман задумчиво стоял у борта струга, спиною к ней. О чем, о ком он думает?
В эту минуту, как бы под влиянием ее взгляда, он обернулся. Из окошечка смотрело на него милое личико, — и задумчивое лицо его разом просветлело. Он вошел в горенку Заиры. И на лице девушки отразилась радость, но она не бросилась к нему на шею, как бывало прежде. Она робко подошла к нему, смущенная, краснеющая; в первый раз по отношению к нему в ней заговорила женская стыдливость. Он молча обнял ее, крепко прижал к себе, как бы боясь потерять это нежное существо, и стал ласкать — целовал ее головку, глаза. Он чувствовал, что она дрожит в его объятиях. Но ни он, ни она не говорили. О вчерашнем он не сказал ей ни слова — он ждал, не скажет ли она. Но и она молчала. Он заметил, что присланные ей вчера княгинею Прозоровскою лакомства не тронуты. Поднос с фруктами стоял в стороне на столике.
— Ты, кажись, не дотронулась до княгинина гостинца? — спросил он, заглядывая ей в глаза.
— Мне не хотелось, — чуть слышно отвечала она. Но ни слова о вчерашнем.
Он стал наблюдать за нею, обдумывать ее поведение. Он видел, что она таится от него. В своей грубой совести он так и решил, что она виновата: молчит — значит боится. Эта совесть не умела подсказать ему, что девушка щадит его спокойствие, что ей жаль видеть человека, которого неминуемо ждет лютая казнь, хоть человек этот и был для нее неприятен — это Хабибулла.
И он и она со вчерашнего вечера вдруг почувствовали, что между ними уже что-то стояло: это что-то и было обоюдное подозрение — «черная кошка».
Он сказал, что сегодня у него будут гости — воевода и другие власти города.
— А она будет? — чуть слышно спросила Заира.
— Кто она? — удивился Разин.
— Воеводиха, княгиня.
— Зачем ей быть? Боярыне это непригоже — на Москве нету такого звычая, — отвечал он.
«Значит, Хабибулла солгал? Может быть, он и все солгал?»
Девушка крепче прижалась к своему возлюбленному, точно боялась, что у нее возьмут его. Она чувствовала, как стучало его сердце, точно молот.
В это время на струге послышался какой-то говор. Можно было различить, что казаки Разина переговаривались с кем-то на берегу. С берега слышно было: «Хотим видеть батюшку Степана Тимофеевича!»
Разин вышел на палубу. Перед стругом стояла группа стариков. При появлении Разина все сняли шапки.
— Здорово, старички почтенные! — ласково сказал Разин.
— Ты здрав буди, батюшка Степан Тимофеевич! — послышалось с берега. — Мы пришли к тебе с поклоном: рыбный ряд осетром тебе, батюшке нашему, кланяется.
— Спасибо на поклоне! — отвечал Разин. — Милости прошу пожаловать ко мне на струг — выпить по чаре вина заморского.
Старики гурьбой стали всходить по сходням на струг.
— Уж и осетрище изволением божиим попался, батюшка Степан Тимофеевич, — говорил один старик с бородой по пояс, — такого осетра не запомню с тех мест, как царила у нас в Астрахани проклятая Маринка-безбожница с Ивашкою Заруцковым[56]. А ноне трех таких пымали наши ловцы: дак одного осетра мы спосылаем на Москву великому государю Алексею Михайловичу, а другого — святейшему патриарху, а третьего тебе подносим, батюшка Степан Тимофеевич.
— Спасибо, спасибо за честь, почтенные старички! — благодарил атаман. — А воеводе-то своему вы что поднесете? — улыбнулся он.
— Воевода и севрюжиной будет доволен, — отвечал старик, тоже улыбаясь. — А ну, ребята, покажьте чуду-юду! — крикнул он ловцам, бывшим в косной лодке близ струга.