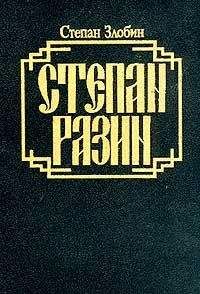Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
«... Экий разварня, соплей зашибить, на базаре таковских на полушку сотня, а ишь ли наловчился ногами кренделя писать», – возревновал Любимко к поддатню.
Но Бог весть, были ли мысли завистливые; но ежли и были они, то пропали, как скорый утренний волглый туман под солнцем оседает в кочкарнике, оплетая слюдяными волотями тугие травяные стоянцы.
Нет, не зря взрастал Любимко под отцовым приглядом: из-под его руки все до самой малой заусенки прилежно вычел он из стародавнего птичьего промысла, и, знать, в эту минуту в Окладниковой слободе грустно заскрипело стареющее отцово сердце, что вот понапрасну с такой легкостью отпустил он младшенького, надею свою, из гнездовья, может, и навсегда. Подпенная змея коварно ужалила Созонта блазнью, когда, позарясь на сыновьи желания, захотел поноровить им, усластить дитячьи задумки, спустил несмышленыша-гнездаря без призору в чужедальнюю сторону: де, лети из дому, коли взяла думка. А как мечтал удержать возле себя! Вот и хлебай нынче лаптем шти, старый...
Четыре начальных сокольника сплотились у стола, окружили птицу, и Парфентий Табалин принял белого кречета из руки помощника, справно и с достойной опаскою, и с тайным восторгом, и веселием; он властно ухватил кречета за опутенки, посадил на рукавицу, дивясь редкостной птичьей стати. Кречет лишь раз взмахнул белоснежными крылами, погнал по избе воздуха и, умащиваясь, горготнул с тоскою, оборотясь к прорубу в стене, откуда источался слышимый лишь ему дух молодого хозяина, запах оленной одевальницы, морского ветра, ледяных Шехоходских гор, кислой северной помаковки, зимней стыни родимого засторонка и прели весенней цветущей тундры.
От проруба доносило духом милой родины. Но в слюдяное оконце проламывалось апрельское солнце, такое жаркое в избе, морошечной желтизны лужицы растеклись по полу, и в одну из них погрузился, не забрызгав сафьяна, изузоренный государев чеботок А в дальнем конце сушила в своем чуланчике на колоде мостился молодой челиг, ее сын, уже позабывший мамку, но у нее-то в груди еще не пожухла и не отпала волосинка родства. А в щель неплотно притворенной двери сочился влажный сквозняк с воли, тонкая прохладная струйка, пахнущая зацветшим мохом, грибами, и елушником, и свежей кровью только что забитой скотины. И это тоже была родина. Все смешалось в птичьей душе в один оранжевый сгусток, кречет издал прощальный клекот и прицельно воззрился на государя, выметнув розовое змеиное жало. И государь подивился редкостной красоте дикомыта: широкая, снежного окраса грудь с атласным пером, умощенным в непробиваемую кольчужку, меченная черно-бурыми копейцами; махалки в аршин, перо к перу, уложенные вдоль литого тела упругими клиньями; бурые пронзительные глаза в зеленоватых ободьях, желтый венчик на голове, будто наведенный вареным золотом. Птицы в венце государь еще не видывал. Это Царь Небесный смотрел на царя земного; воистину гонец Господень спосылан в подручники и для особой вести, и надобно урядить его по-царски.
И накрыли начальные сокольники кречета клобучком, шитым из веницейского алого бархата, низанного жемчугом, процвеченным зеленым шелком и серебряным репьем, утыканным золотыми цевками; а к среднему хвостовому перу приторочили серебряные колокольцы; а лапы в седых пуховых штанах покрыли сафьянными онучками, шитыми волоченым золотом, и поверх онучек повязали сильца с золотым кольцом, и через него продели шелковый плетеный шнур с кляпышком, а грудь покрыли золотным бархатным покровцем с алмазом чистой воды. Солнечный луч упал на голубой адамант, изломался в камне на сотни волокон, потом взялся пламенем, и птица вспыхнула жарким светом, слепящим глаза. Подсокольничий Хомяков вздел рукавицу с притчами и, перекрестясь, перенял уряженного сокола, приблизился к государю, как того заповедал урядник сокольничьего пути, но встал поодаль, с опаскою, чтобы Алексей Михайлович мог подивиться красоте птицы и погордиться ею.
Государь восхитился, в лице появилось детское, удивленное, ликующее. Только зараженный птичьей потехою человек, истинный охотник мог так обрадоваться столь дорогому подарку.
«Гамаюн... чисто воин! Так и звать впредь! – вырвалось невольно. – Откудова и чьих мест?» – спросил государь с хрипотцою после некоторого молчания, не сводя с белого кречета завороженного взгляда.
«Поднес от себя мезенский помытчик Любимко Ванюков и взят велением Афанасия Матюшкина на сушило кормленщиком впредь до твоего указа», – Хомяков покосился на волоковое оконце, и Любимко зарделся густо, сердце его возликовало. Услышал Господь его молитвы, отворил слух и уста; вот сейчас возвестит государь, де, призовите служивого пред мои очи. Любимко оправил кафтан, пробежался пальцами по гнездам пуговиц, шапку заломил круче. Но государь отчего-то потускнел лицом, слинял взглядом, будто внезапно уязвила нутряная хворь, и объявил подьячему Василию Ботвиньеву с досадою: «Пиши... Велю наградить двумя портищами сукна настрофиля лазоревого... Ну, самочинщики...»
И тут Любимку позвали из сушила – пришла пора прибираться.
Вечером в задних хоромах царские начальные сокольники пировали ествою с царской кухни; послал государь своим любимцам и по чарке меду стоялого, по кубку ренского да ведро пива выкислого. Поддатень Андрюшка Кельин крутился возле хором, где гостевал с Хомяковым и его отец, начальный сокольник пятой статьи; от него перепало из ковша и сыну. Тот, захмелев, хватил еще и браги, потом долго маялся на сушиле, пел песни и смеялся дурашливо.
Во втором часу ночи в окно постучал Любимко, попросил овчинный кожушок со своего ларя. Любимко не мог уснуть в избе. Стояло влажное весеннее тепло с близкой грозою, и парень решил завалиться спать в телегу на воле, на сенной клок, накрывшись кожушком, уставясь мрелым взглядом в иссиня-черное со сполохами глинистое небо и вспоминая родину. Андрюшка выдернул из вертлюгов раму, подал овчину, поставил окно обратно в колоду, а запереть, такой разварня, позабыл спьяну. Ночью рама возьми и пади в чулан и зашибла Парфентьева челига Мальца.
...Утром Андрюшку Кельина драли на конюшне, разложив на скамье, в два батога, вбивали науку, чтоб не дурил, а после ссадили на неделю в застенку на хлеб-воду. Но многие из рядовых сокольников оказались на тот день в гулящей по своим домам, и Любимко угодил по Парфентьевой статье на государеву пробную охоту в коломенские поля.
Господь услышал его мольбы.
Глава вторая
Видел бы сейчас батько Созонт сына своего в этих сырых утренних низинах, принакрытых сизым дымным туманцем, из которого выныривают кожаные капелюхи всадников. Туго екает селезенка в лошажьей утробе, гнется под седлом мягкая, отмокревшая спина под тяжестью седока, будто навалили кобыле на бедную хребтину лиственничный елуй, и вот волоки этот необхватный кряж по водомоинам, с трудом выдирая ноги. Тихо. Только звякнет иногда стремя, глухо кашлянет в кулак пеший псарь, с головой утонувший в яремной сыри, проскулит ищейная собака на сворке; борзые на длинных вязках струят по скисшей летошней траве меж мягких бородатых кочек, наискивая и взрыдывая от запахов болотной дичи. Прострижет со свистом всполошенный барашек, проблеет сладко – и опять все тихо.
Хлюпая сапогами, проваливаясь в просовы и водомоины, пешие приказчики несут в берестяном коробье птицу с великим тщанием, боясь помять перье. Скрипнет арчак под грузным Любимкиным телом, и охотник неловко хватается за деревянную луку седла; не привыкший к верховому пути, уже истомленный до крайности, с потертостями на ягодицах, приискивает он покою разгоряченным, немятым стегнам. Любимко боится обернуться, где саженях в двадцати от него, плотно окруженный охотничьими стрелками и стремянными конюхами, едет государь, да дядька его боярин Борис Морозов, как и царь, также зараженный охотничьей страстию. Боясь потревожить тишину, Любимко откидывает на спину наползающее на живот саадачное лубье с луком и черкасскими стрелами, выданными из приказа Тайных дел. На поясе у сокольника с левой стороны вабило с крюком, подвешено на кольцо, рукавица полевая заткнута за лосиный пояс; под правой рукою – ващага, рог серебряный, полотенце, лядунка и нож. И только нож свой, домашний, непроточен на промыслах в долгие зимние вечера, с рукоятью из рыбьего зуба, в берестяном влагалище, задубевшем от воды. Нож в две Любимкиных ладони и может прохватить медвежье сердце насквозь.
Любимке жарко, он отпахивает верхние крючки ездового кафтана, размыкает кляпыши киндячного зипуна, подставляя грудь воле, и чувствует, как сырые змеиные хвосты скользко вползают под тельную рубаху, однако не в силах остудить разгоряченного тела. Любимко насторожен, он страшится опростоволоситься, взгляд его зорок и схватывает каждую видимую пядь наволока под ногами, залитую молоком; он старается ехать след в след за Парфентием Табалиным, что сонно качается в седле, как тряпошная кукла. Но душа-то Любимкина простодушно ликовствует, она поет высокую храмовую песнь, похожую на аллилуйю, и сердце его захлебывается горделивой радостью. Иногда лошадь по бабки проваливается в водомоину, и Любимко вздрагивает, захолаживает грудью, и ему мнится вдруг, что все наснилось...