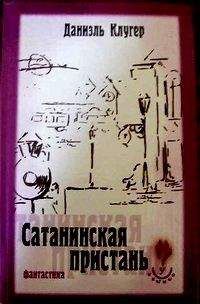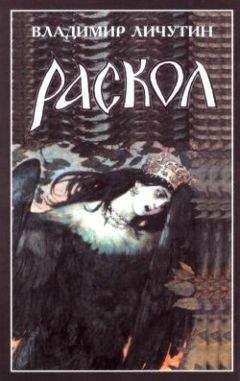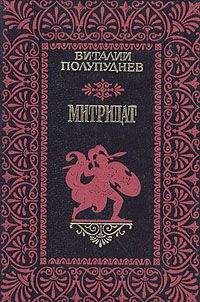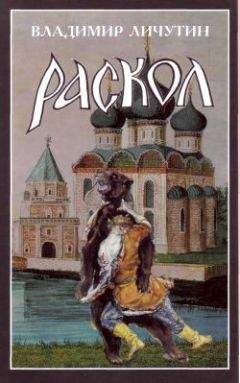Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
...Государь ждет, велит поспешать: прилучится что да замешкаю коли, пообидеться может. Греют царевы листы сердце Никона: куда дороже они всяких лалов и смарагдов, от них щекотный огонь и глаза щемит близкой слезою. Собинный друг велит поторапливаться. Вроде бы обручены души, окольцованы, столь они томятся друг по друге. Не спи, Никон, бодрствуй: тебе выпала воля дозорить над Русью. От твоего костра разлетятся искры, и подымется пал, и горящие галки полетят над землею, и свара людская станет обыденкой.
Оглянись, Никон: не замешкал ли на отвилке, той ли дорогою наметил ход от росстани, есть еще время вспятить отай, и никто не похулит, есть места на Руси, где можно так затвориться вновь, как бы пропасть навовсе.
Никитка, помнишь ли, как, оставя отчий дом, тайком, не спросясь отцова благословения, ты бежал в Макарьев в Желтоводский монастырь, где и стал послушником и строгая жизнь в затворе не томила тебя. В летнее время ты взбирался спать на колокольню в те недолгие часы, что доставались отдыху, чтобы не опоздать к началу ранней утрени, и благовестный колокол подымал тебя на ноги грозным, но и милосердным зовом...
Никитка Минич, еще не позабыл ли ты, как невдали от того монастыря в селе Кириково жил учительный священник Анания, а ты любил вести с ним духовные беседы. И однажды, набравшись смелости, ты попросил в подарок рясу – так не терпелось тебе постричься. И старый благочестивый поп сказал тебе: «Юноша избранный, не прогневайся на меня: ты по благодати Духа Святого будешь носить рясы лучше этой, будешь ты в великом чине, патриархом».
...Греют душу царевы листы. Лежат они в дорожной укладке в замшевом мешке под боком митрополита: ничей глаз не должен коснуться их переписки; ежели и живет какая тайна на свете, так это государевы письма к собинному другу.
Торопись, Никон. Это, послушествуя твоей затее, собрал Алексей Михайлович такое торжественное посольство в Соловецкий монастырь по давно усопшую душу за прощением, по святые мощи митрополита Филиппа. Это ты сыскал в преданиях византийских, как император Феодосии посылал за мощами Иоанна Златоуста с собственной молитвенной грамотой к оскорбленному его матерью святому. И поверил тебе мягкий государь, де, пока не покается синклит перед мучеником Филиппом, умерщвленным опричником Малютой Скуратовым, до той поры не будет на Руси молитвенного смирения, быть на земле разброду и ереси и не знать более должного покоя в великом царствии. Грех за невинную кровь пал на Русь, и надобно ей очиститься покаянными слезами.
В замшевом мешке вместе с перепискою и митрополичьей печатью покоится царево послание в Господний вертоград, что написал Алексей Михайлович самолично, никому не препоручая, в слезах и молитвах, бесконечно веруя, что его искренний глас безусловно достигнет святой души невинноубиенного Филиппа Колычева и он простит царский дом: «Молю тебе и желаю пришествия твоего сюда, чтоб разрешить согрешение прадеда нашего царя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно завистию и несдержанием ярости. Хотя я и не повинен в досаждении твоем, однако гроб прадеда постоянно убеждает меня и в жалость приводит, ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей святительской паствы. Поэтому преклоняю сан свой царский за прадеда моего, против тебя согрешившего, да оставивши ему согрешение его своим к нам пришествием, да упраздняется поношение, которое лежит на нем за изгнание, пусть все уверятся, что ты помирился с ним; он раскается тогда в своем грехе, и за это покаяние и по нашему прошению приди к нам, святой владыка! Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал: „Всяко царствие раздельшееся на ся не станет“, и нет более теперь у нас прекословящего твоим глаголам...»
Глава шестая
«Ханжа, на себя одеяло тащит», – вслух сказал Хитров и от своих слов проснулся. Оказывается, и ночью не позабывал Ртищева, его постоянно смиренный, опущенный долу взгляд, коротко стриженные, как кабанья щетина, волосы. «Тьфу на него! – Окольничий протер глаза и окончательно проснулся. – Святее Господа Бога быть хощет, а сам все куры строит, выскочка. Я ужо тебе хвост-то прищемлю, как будешь пред государем-то ластиться. Змей... одно слово Змей Горыныч. – Хитров вздохнул, с неохотою слез с пуховика. – Вчера девка Марыська просилася в постелю, не пустил к себе: больно жадна до утех, а после храпит. Ну их, бесово племя, к дьяволу. Одна усталь – и все... Что там Давыдко, лекарь, намедни баял? Де, патриарх отходит, завдовеет наша матушка-церковь. Небось тоже куры струит, свои виды имеет, шиш заморский, вот и крутит возле». И тут перекинулся мыслью Хитров, сам себе указал: ну, Богдаша, не трусь, перемененья надо ждать. Зашевелятся ныне ханжи, пришло время постникам, эко сдружились, шепотники, житья от них не стало. Ртищев-то первейший средь них закоперщик. Надобно слово и дело крикнуть, под пытку подвесть, нет ли средь них умыслу. Украину, вишь, громко славят да гречан, – не перекинуться ли хотят, а батюшка-государь на то очи закрыл. Ханжа приглазно сала кус съест – не утрется, а скажет, не скуксясь, де, огурец соленой... Верное слово стариками молвлено: не дай, Господи, делать с барина холопа, с холопа дворянина, из попа палача, из богатыря воеводу. Словить бы мне Ртищева, да в Земской приказ ко мне на правеж. Лично бы доблюл, штоб пошибче да без изъяну – без сговору с палачом. А то ишь наловчились, поганцы, дощечки в сапожонки пихать, чтоб палкою не достало... В друзьяки метит к государю, да тех же беспородных в Терем тащит. Что Матвеев, что Нащокин – на грош сотня. Знать, пришло перемененье света: мужик кругом правит, и никто породы не блюдет. А я сыщу, однако, на них оракула-звездобайца: как клопов изведет...
Хитров позвал карлу, велел подавать выездное платье. С улицы открыли ставни, но свету с воли едва пролилось. Весна нынче припазднивалась: на Благовещенье снегу с крыш – не охапить, в затишках сугробы под самые застрехи. Вчерась была Марья – зажги снега, давно пора вешнице быть, а тут без шубы не ступи: ох-ох-ох, воистину новые времена и Господь отступился от нас. Хитров вздохнул, перекрестился: на Варваре зазвенели колокола, какой-то служка раньше Кремля встряхнулся с постелей. Хитров накинул на плечи стамедовый халат на бумажном подкладе, еще очумелый, тупой со сна беспомощно пробежался по опочивальне, сам себе чужой, бедный, позабытый. Потрогал по-стариковски печку, изразцы едва отозвались теплом: ах, лентяи, ах, выжиги, их не встряхни – и сами заколеют, и хозяина выморозят.
Во рту было противно, будто коты ночевали: вчера накурился, а нынче мука. Вот дьявольская забава – пожурил себя Хитров, невольно потянулся к тавлинке с табачком, подсыпал на ноготь щепотку, вдохнул, зверски чихнул, и вся усадьба ожила. Захлопали двери, забегали по двору огни, вся челядь, более ста душ, неохотно, с натугою принялась жить. Хитров кликнул меду; Захарка принес ендову, отлил в кубок. Окольничий выпил, зажмурился – и тоже ожил, почуял, что молод, удачлив, любим государем – и холост. Этот негодяй Давыдка обещал литовку: яра, говорит.
«Слышь, Захарка, ты литовок знавал? Яры, сказывали, как воск».
Бессонный дозорный карла поднял на хозяина круглые, мучительно грустные глаза, особенно яркие на бледном лице.
«Да что вы, Богдан Матвеевич. Меду в какую посуду ни лей, он слаще не будет. Пока пьешь – услада, после хмель, а в конце слезы. Подсунет тебе Давыдка ведьму, покрутишься на помеле».
«Ох, брат, пошто ты не женщина? Тебя бы я полюбил», – искренне воскликнул Хитров и подмигнул Захарке. Тот вспыхнул, в бесстрастном немом лице пробрызнуло жизнью.
«Будет вам, будет, – с тоскою отозвался Захарка. – Во мне и так всего много, не по моему сердцу. Будто сам себе скудельница. И спать боюся, снится одна срамота». И не спросясь благоволения, в хозяйский кубок отлил из серебряной ендовы, жадно выпил с таким чувством, будто и не жилец.
Хозяин поглядел в зеркало, но смолчал, наливши из стеклянной посуды родостаму, обильно смочил затылок розовой водой, отбивая запах табаку, придирчиво оценил обличье, сам себе показался тусклым, потертым. Усмехнулся, тут же возлюбя себя: не с лица воду пить, рыжий да рябой народ дорогой. Не суйся на свет, но и в тени не застаивайся. Впредь тебе, Богдан Матвеевич, наука: не тот вор, что ворует, но тот вор, что попадается.
«Вот поскули еще, поскули, – пригрозил Захарке. – Все мы холопи государевы. Мне бы твои заботы, злодей Живешь, рабичище, как кот на печи. Будешь ныть, сошлю с Афонькою в Петрищево да оженю на Матрешке еговой, старой деве, карл плодить. Во, кобыла неезжена! За ночь не объедешь! Тамотки запоешь лазаря да и затоскуешь о московском житье».
Хитров погрозил пальцем в зеркало, подсматривая любопытно за карлою. Захарка смиренно поклонился земно, держа в руке ермолку; ендова с медом стояла на полу и для карлы казалась крестильной чашей. В густой темно-коричневой заводи ее купалось отраженье трав и птиц, коими был расписан потолок опочивальни. Каштановые, с шелковым отблеском волосы скатились на лицо Захарки, и хозяину послышалось, что карла плачет.